Книга: Дуэль нейрохирургов. Как открывали тайны мозга и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку
Назад: Часть V Сознание
Дальше: Глава 11 Слева, справа и в центре
Глава 10
Правдивая ложь
Почти каждая структура, которую мы изучили к этому моменту, вносит свой вклад в формирование и сохранение воспоминаний. Поэтому память – прекрасный способ узнать, каким образом разные части мозга работают совместно на масштабном уровне.
В могилах Юго-Восточной Азии похоронено больше солдат, чем мирных людей. Во время завоевания Сингапура в 1942 году японские солдаты захватили 100 000 военнопленных, в основном британцев, – больше, чем то количество, с которым они могли справиться. Тысячи из них были отправлены на верную гибель на жестокой «дороге смерти» из Бирмы в Сиам; этот проект строительства железной дороги включал расчистку 400 километров горных джунглей и сооружение мостов над такими реками, как Квай.
Большинство оставшихся пленников, включая многих врачей, согнали в печально известные японские тюремные лагеря. Двое британских врачей, заключенных в лагере Чанги, Бернард Леннокс и Хью Эдвард де Варденер, вскоре поняли, что их тюремщики фактически проводят жуткий эксперимент: взять здоровых людей, лишить их одного питательного вещества и наблюдать за разрушением их мозга.
Независимо от образования, любой врач в лагере выполнял работу хирурга, дантиста, психиатра и коронера и сам страдал от тех же болезней – дизентерии, малярии, дифтерии, – которые истребляли солдат. Врачи пользовались бамбуковыми спицами как иглами, парашютной тканью для наложения шелковых швов. Муссоны разрушали их «клиники» – часто всего лишь тенты, растянутые на кольях, – и некоторые врачи сталкивались с побоями и угрозами быть сваренными в кипящем масле, если они не вылечат достаточно солдат для работ. Охранники усугубляли положение, переводя больных на половинные рационы, чтобы «мотивировать» их к выздоровлению. Но даже среди здоровых людей пища – в основном вареный рис – была совершенно недостаточной и приводила к болезни бери-бери.
С тех пор как люди в Азии начали есть рис, врачи сообщали о вспышках бери-бери. Симптомы включали нарушения сердечной деятельности, анорексию, подергивание глаз и болезненное распухание ног вплоть до лопающейся кожи. Жертвы также имели шаркающую, качающуюся походку, которая напоминала местным жителям бери, или овец.
В XVII веке, когда европейцы колонизировали Юго-Восточную Азию, их врачи тоже столкнулись с бери-бери; один из первых отчетов был составлен Николасом Тулпом, голландцем, который впоследствии обрел бессмертие на картине Рембрандта «Урок анатомии». Но количество случаев резко увеличилось после строительства в Азии паровых рисовых мельниц в конце XIX века.
Мельницы удаляли внешнюю оболочку рисовых зерен и производили так называемый белый рис. Тогда люди называли его шлифованным рисом, и дешевый шлифованный рис стал основой рациона – или, как часто бывало, единственной пищей, – для крестьян, солдат и заключенных. Только во время Русско-японской войны двести тысяч японцев стали жертвами бери-бери.
В конце концов ученые заподозрили, что бери-бери появляется от нехватки витамина B1 (тиамина). Очищая питательные рисовые оболочки, мельницы удаляли почти весь B1, а многие люди не получали достаточно тиамина из овощей, бобов и мяса. Наш организм использует B1 для выработки энергии из глюкозы, конечного продукта переваривания углеводов. Клетки мозга особенно зависят от глюкозы как источника энергии, поскольку другие сахара не могут преодолеть гематоэнцефалический барьер. Мозг также нуждается в тиамине для формирования миелиновых оболочек и создания некоторых нейротрансмиттеров.
Первые случаи бери-бери появились через две недели после открытия лагеря Чанги среди немногочисленных алкоголиков, у которых началась «ломка». Через месяц последовало множество новых случаев. Врачи как могли ухаживали за больными и иногда подбадривали их лживыми историями о наступлении союзных войск. Когда все остальное оказывалось бесполезным, некоторые врачи приказывали людям жить под угрозой военного трибунала (это напоминает средневековые указы, согласно которым самоубийство было незаконным). Тем не менее к июню 1942 года только в Чанги была зарегистрирована тысяча случаев бери-бери.
Бессильные остановить эпидемию, Варденер и Леннокс начали проводить тайные вскрытия и собирать ткани из мозга жертв бери-бери для изучения патологии заболевания.
Хотя эти ткани и отчеты о вскрытиях считались контрабандой, в Чанги их можно было хранить в надежном тайнике. Но в 1943 году Леннокс и Варденер были сосланы в разные лагеря возле «дороги смерти» в Сиаме, и им пришлось разделить свои медицинские запасы. Опасаясь конфискации, Леннокс организовал контрабандный вывоз тканей мозга из своего лагеря, но они пропали при крушении поезда. Варденер охранял важные бумажные записи, стопку листов толщиной в десять сантиметров.
Но в начале 1945 года, когда Япония была на грани поражения, Варденер осознал, что японское начальство вряд ли хорошо отнесется к убедительным доказательствам голода среди военнопленных. Поэтому, когда он получил приказ о новом переводе и увидел, как охранники обыскивают его товарищей по несчастью и их пожитки, то принял поспешное решение. Он попросил своего друга-металлурга запаять его бумаги в пятнадцатилитровой канистре для бензина. Варденер завернул канистру в плащ и зарыл на глубине метра в свежевыкопанной могиле, оставив на страже лишь мертвого солдата.
Для того чтобы потом найти нужную могилу среди множества таких же, он со своими друзьями взял несколько компасных ориентиров на высокие деревья, растущие поблизости. Покидая лагерь, Варденер мог лишь уповать на то, что жара, гниль и миазмы Сиама не проникнут в сверток до его возвращения… если он вернется.
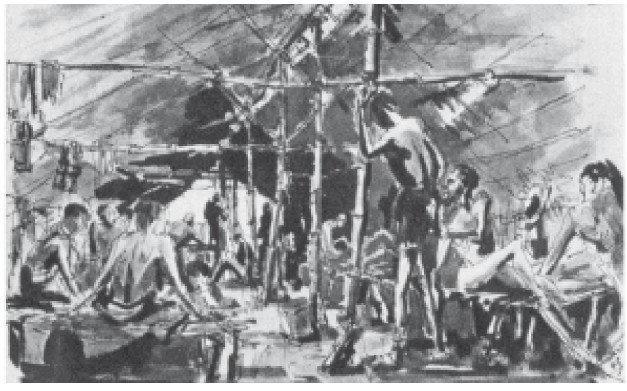
Японский госпиталь для военнопленных в Сингапуре.
Эти записи были драгоценными, потому что они разрешали полувековой спор о мозге, тиамине и памяти.
В 1887 году русский невролог Сергей Корсаков описал необычную болезнь у алкоголиков. Симптомы включали истощение, спотыкающуюся походку, отсутствие подколенного рефлекса и мочу «такую же красную, как крепкий чай». Но самым необычным симптомом была потеря памяти.
Пациенты Корсакова могли играть в шахматы, шутить, рассказывать анекдоты и нормально рассуждать, но не могли вспомнить предыдущий день и даже предыдущий час. Во время разговоров они снова и снова повторяли одни и те же анекдоты, причем дословно. Разумеется, другие расстройства мозга тоже приводили к потере памяти, но Корсаков заметил нечто особенное в этих случаях. Если задать вопрос, на который человек не может ответить, большинство пациентов с потерей памяти признаются, что они не знают. Пациенты Корсакова никогда так не делали и каждый раз лгали в ответ.
В наши дни синдром Корсакова – непреодолимая склонность к лжи из-за расстройства мозга – является хорошо известным заболеванием. По правде говоря, оно может быть довольно забавным, в духе «черного юмора».
Когда одного пациента с синдромом Корсакова спросили, почему Мария Кюри была знаменитой, он ответил: «Из-за ее прически». Другой утверждал, что знает любимое блюдо Карла Великого (кукурузная каша) и масть лошади короля Артура (черная). Жертвы синдрома особенно часто лгали о своей личной жизни. Один человек утверждал, что помнит (спустя тридцать лет), какую одежду он носил в первый день лета 1979 года. Другой сообщил своему врачу в двух последовательных фразах, что он был женат четыре месяца и имел четырех детей от этой жены. После быстрого расчета он подивился своей сексуальной прыти: «Очень неплохо!»
За исключением настоящих Мюнхгаузенов, большинство жертв синдрома Корсакова рассказывают правдоподобные и даже банальные выдумки; если не знать их биографию, вам ни за что не удастся разоблачить их. В отличие от большинства из нас они лгут не для того, чтобы представить себя в выгодном свете, получить преимущество или что-то скрыть. И в отличие от людей, страдающих от иллюзий, они не бросаются со всей страстью отстаивать свою позицию, если их выводят на чистую воду; многие просто пожимают плечами. Но независимо от того, как часто их ловят на лжи, они продолжают лгать. Это вранье без очевидных или скрытых причин называется конфабуляцией, или бесцельной ложью.
Корсаков сосредоточился на психологии конфабуляции, но другие ученые продолжили его работу в начале XX века и начали связывать эти психологические симптомы с конкретными травмами мозга. В частности, они обнаружили крошечные кровоизлияния в мозге жертв, а также участки мертвых нейронов. Патологи также связали синдром Корсакова с другим близким расстройством, которое называется синдромом Вернике. Поскольку синдром Вернике часто переходит в синдром Корсакова, их в конце концов объединили под названием «синдром Вернике – Корсакова».
Глубинную причину синдрома Вернике – Корсакова установить было труднее, но в конце 1930-х годов некоторые ученые связали его с нехваткой B1. Теперь врачам известно, что алкоголь мешает кишечнику абсорбировать тиамин, содержащийся в пище. Этот недостаток приводит к изменениям внутри мозга, особенно в глиальных клетках. Помимо других задач, глиальные клетки поглощают избыточные нейротрансмиттеры из синапсов между нейронами. Без тиамина глия также не может впитывать глутамат, который стимулирует нейроны. В результате этого избытка происходит чрезмерная стимуляция нейронов, и они в конце концов выдыхаются и погибают от эксайтотоксичности.
Поскольку бери-бери и синдром Вернике – Корсакова имеют сходную причину – недостаток B1, – то они должны вызывать сходные симптомы и сходные разрушения внутри мозга. Но в 1940-е годы ни у кого не было убедительных доказательств связи между этими болезнями. Отчасти это происходило потому, что синдром Вернике – Корсакова оставался редким и ассоциировался преимущественно с алкоголиками, а отчасти потому, что врачи, изучавшие бери-бери, уделяли больше внимания повреждениям сердца и нервов, а не мозга. В результате возникла путаница: это две разные болезни или одна? Что более важно, это указывало на растущую потребность нащупать связи между физиологией и психологией. Многие врачи искренне сомневались, что отсутствие обычного витамина может затронуть организм на многих уровнях и стать причиной сложных психических проблем, таких как конфабуляция.
Опыт лагеря Чанги подтвердил, что такое возможно. Среди тысячи с лишним жертв бери-бери у нескольких десятков умерших заключенных наблюдались симптомы синдрома Вернике – Корсакова, включая конфабуляцию.
В качестве примера Варденер спросил одного больного с целью проверить состояние его психики: «Вы помните, как мы познакомились в Брайтоне? Мы ехали вдоль пляжа – я на белой лошади, а вы на черной». Это была ложь, но пациент ответил, что он прекрасно помнит этот день, и дополнил описание новыми подробностями. Увы, такие выдумки часто становились реальностью для пациентов, и несколько человек умерли в таком состоянии – их последние «воспоминания» были пустыми фантазиями.
С медицинской точки зрения тот факт, что бери-бери всегда предшествовала синдрому Вернике – Корсакова и что тяжелые больные имели самые сильные проявления этого синдрома, указывал на общую причину. Вскрытия подтвердили эту связь: даже без микроскопа опытный патолог Леннокс мог видеть характерные кровоизлияния и участки мертвых нейронов в мозге жертв. Все выглядело так, как будто бери-бери и синдром Вернике – Корсакова были двумя стадиями – хронической и острой – одной и той же болезни.
В качестве дальнейшего доказательства лечение жертв чистым тиамином (у некоторых врачей имелся крошечный запас) обычно облегчало симптомы бери-бери и синдрома Вернике – Корсакова – иногда за считаные часы. Варденер вспоминал, как некоторые люди буквально возвращались к жизни и поедали целые горы риса, чтобы утолить внезапный голод. (Психические симптомы, такие как конфабуляция, рассеивались через несколько недель.) В менее тяжелых случаях врачи добавляли в еду мармайт (этот неаппетитный на вид экстракт на основе дрожжей богат витамином B1) или ферментированный рис и картофель для выработки природных дрожжей, также содержащих много витамина B1.
Некоторые врачи также посылали людей собирать богатые тиамином листья гибискуса. Более хитроумные лгали пациентам и утверждали, что гибискус усилит их либидо, когда они вернутся домой к своим подругам. После этого солдаты, несомненно, поедали гибискус в больших количествах.
Алкоголь мешает кишечнику абсорбировать тиамин, содержащийся в пище. Этот недостаток приводит к изменениям внутри мозга.
Тот факт, что недостаток тиамина провоцировал синдром Вернике – Корсакова и что возвращение тиамина в рацион облегчало его симптомы, убедил Леннокса и Варденера, что отсутствие обычного витамина действительно может разрушить нечто столь глубокое, как наша память или способность говорить правду. Но им еще предстояло изложить свои доказательства в медицинских кругах, а это означало необходимость не только выжить в лагере, но и сберечь архивы вскрытий. Это было нелегко в зоне боевых действий, и, как обнаружил Варденер, едва ли не единственным способом сохранить их работу было захоронение ее результатов в чужой могиле в надежде на возвращение.
После победы над Японией Варденер получил загадочное распоряжение прибыть в Бангкок. Хотя он беспокоился по поводу своих архивов, но помнил, как наслаждался поездкой: «Я совершил триумфальную поездку в джипе по Сиаму, и все японцы кланялись нам… что было очень приятно». К своему удивлению, он обнаружил, что записи ждут его в бангкокской штаб-квартире. Очевидно, его друг вернулся в Чанги с лопатой незадолго до этого, раскопал могилу мертвого стража и извлек сверток. Он успел вовремя: плащ сгнил, а припой на канистре практически распался. Но бумаги сохранились. Ленок и Варденер наконец опубликовали свою принципиально новую работу в 1947 году (50).
* * *
После Второй мировой войны неврологи продолжили изучение конфабуляции с целью узнать, как работает память, и это оказалась действительно богатая жила. К примеру, конфабуляции открывали, что каждое воспоминание имеет характерную отметку о времени, как компьютерный файл – дату создания. И точно так же, как в компьютерном файле, эту отметку можно было исказить.
Большинство конфабуляторов рассказывали правдоподобные выдумки; фактически многие фальшивые «воспоминания» действительно соответствовали событиям на каком-то этапе их жизни. Но конфабуляторы часто ошибались в том, когда произошло событие: сцены их жизни были беспорядочно перемешаны. Поэтому, когда они утверждали, что ели утку с трюфелями вчера вечером, на самом деле это произошло тридцать лет назад во время медового месяца в Париже. В некотором смысле конфабуляция является утратой способности рассказывать связную историю своей жизни.
Тот факт, что практически у всех конфабуляторов имелись повреждения фронтальных долей, тоже кое о чем говорит. Фронтальные доли помогают координировать многоходовые процессы, и несмотря на то, что воспоминание как будто не требует усилий, воспоминание о чем-то конкретном (например, худший подарок на Рождество, который вы получили) является сложным действием. Мозг имеет долю секунды для поиска воспоминания, его мысленного воспроизведения и воссоздания соответствующих эмоций и ощущений – и это при том, что вы все точно запомнили с самого начала.
Если фронтальные доли оказываются поврежденными, любой из этих шагов может оказаться неверным. Возможно, конфабуляторы просто каждый раз извлекают неверные воспоминания, когда «вспоминают» о чем-то, и не осознают свою ошибку.
Некоторые ученые связывают конфабуляции с чувством стыда и потребностью скрыть недостатки. Конфабуляторы, как правило, не городят небылицы просто так: вам нужно задавать вопросы, чтобы получить лживые ответы. Согласно этой теории признание своего невежества в чем-либо расстраивает и смущает людей, поэтому они лгут.
К примеру, многие врачи на приеме спрашивают у пациента, сколько у него детей. Ответ «не знаю» может быть катастрофическим для благополучия человека, ведь каким монстром нужно быть, чтобы не помнить собственных детей? Короче говоря, конфабуляция может быть защитным механизмом, с помощью которого люди пытаются скрыть нарушения психики даже от самих себя.
В качестве другого защитного механизма некоторые конфабуляторы изобретают вымышленных персонажей и приписывают им свои недостатки. Один алкоголик с упоением рассказывал своему врачу о чертенятах, которые постоянно вламываются в его квартиру даже после того, как он поменял замки, и крадут вещи, вроде пульта от телевизора. В конце концов он выдворил чертенят на улицу морозной январской ночью. Но чуть позже он почувствовал себя виноватым, закутал чертенят в покрывало, а потом вызвал «Скорую помощь».
На самом деле медики нашли на улице его, вдребезги пьяного и почти голого. Рассказывая эту историю, он фактически сочинял аллегорию налету.
Это было замечательной уловкой для человека с поврежденным мозгом, и она позволила ему задуматься о собственных изъянах, не впутывая в дело самого себя.
Как показывает этот последний случай, не всегда бывает ясно, понимают ли конфабуляторы, что они лгут. Большинство как будто пребывает в блаженном неведении, и многие неврологи настаивают, что пациенты с синдромом Корсакова не понимают, что происходит. Но возможно ли это?
Закрытие пробела в памяти, даже подсознательное, свидетельствует о том, что на каком-то уровне конфабуляторы знают о существовании этого пробела. Это значит, что они знают и не знают одновременно. Возникает логический парадокс, поднимающий трудные вопросы о том, можно ли действительно обманывать самого себя, а в более широком смысле – вопросы о природе правды и лжи.
Представьте, как вы спрашиваете конфабулятора, что он ел на завтрак. Если он не находится в острой стадии расстройства, то может ответить: «Остатки холодной пиццы». Но разумеется, вполне возможно, что он на самом деле ел холодную пиццу на завтрак, а следовательно, говорит правду, даже если его мозг пытается (сознательно или неосознанно) обмануть вас. Как вы это назовете? Ни «ложь», ни «правда» не могут полностью описать этот феномен. Он более тонкий, и некоторые неврологи стали называть его «правдивой ложью».
Если отложить в сторону философские головоломки, изучение конфабуляции помогло сделать память настоящим объектом неврологических исследований в прошлом веке, так как ученым наконец удалось связать память с анатомией и биологией мозга. Но величайший прорыв в исследованиях памяти за последние сто лет не имел отношения к конфабуляции. На самом деле большинство исследований памяти до 1950-х годов опирались на ошибочное предположение о том, что все части мозга вносят равный вклад в формирование и хранение воспоминаний. Для настоящего прорыва понадобилось нечто радикальное: халтурно проведенная операция по лоботомии.
* * *
В начале 1930-х годов велосипедист из Коннектикута сбил маленького мальчика, который упал и расколол череп. Никто не знает, был ли этот инцидент единственной причиной эпилепсии, – трое его двоюродных братьев страдали эпилепсией, так что он мог иметь предрасположенность к ней, – но удар послужил дополнительным стимулом, и в возрасте десяти лет у него начались припадки. Каждый продолжался около сорока секунд. Мальчик разевал рот, закрывал глаза и начинал дергать руками и ногами, словно подвешенный на нитках у кукольника.
Первый по-настоящему сильный припадок случился с ним в день его пятнадцатилетия, когда он ехал в автомобиле со своими родителями. За ним последовали новые, в учебном классе, дома и в магазине – до десяти припадков в день и как минимум один тяжелый эпизод в неделю.
Бесцельная ложь может быть защитным механизмом, с помощью которого люди пытаются скрыть нарушения психики даже от самих себя.
В том возрасте, когда большинство подростков находятся в поисках своей личности, он был тем, кем ему меньше всего хотелось стать: парнем, который трясся всем телом, прикусывал язык, терял сознание и писался в постель. Ему было так тяжело, что он ушел из колледжа и получил диплом в двадцать два года, уже в другом колледже. В конце концов он стал жить дома и работать в автомагазине.
Наконец отчаявшийся молодой человек, вскоре вошедший в историю под инициалами Г. М., решил прибегнуть к хирургической помощи. Подростком он сам мечтал заниматься нейрохирургией и изучать работу мозга. Но хотя Г. М. внес большой вклад в нейрохирургию, из-за своего расстройства он так и не осознал собственного значения.
Г. М. начал встречаться с доктором Уильямом Сковиллом в 1943 году. Известный сорвиголова – однажды, перед медицинской конференцией в Испании, он выскочил на арену корриды, – Сковилл любил рискованные хирургические операции и на раннем этапе примкнул к американской моде на лоботомию (51). Но ему не нравились необратимые изменения личности его пациентов, поэтому он стал экспериментировать с «фракционной» лоботомией, которая разрушала меньше тканей. С годами он обошел весь мозг, вырезая тот или этот кусочек и проверяя результаты, пока не достиг гиппокампа.
Поскольку гиппокамп был частью лимбической системы, ученые того времени считали, что он помогает обрабатывать эмоции, но его точная функция оставалась неизвестной. Бешенство часто разрушало его, и Джеймс Пейпец обращал на него особое внимание. (Будучи поэтом-любителем, Пейпец даже написал песенку для своей жены, которая гласила: «Я скучаю по Перл, моей милой с Брод-стрит / Мой гиппокамп о ней говорит.»)
Сковилл был не таким поэтичным: он видел, какое расстройство психики может вызвать повреждение гиппокампа. Поэтому в начале 1950-х годов он удалил гиппокампы (у вас есть по одному в каждом полушарии) у нескольких психопатов. Хотя было трудно судить о людях с такими нарушениями психики, они как будто не испытывали побочных эффектов, а у двух женщин наблюдалось заметное уменьшение количества припадков. К сожалению, до того, как Сковилл убедил Г. М. прибегнуть к операции, он пренебрегал тщательными тестами пациентов после хирургического вмешательства.
Операция Г. М. состоялась 1 сентября 1953 года в Хартфорде, штат Коннектикут. Сковилл откинул назад скальп пациента, а потом воспользовался кривошипом и однодолларовой ручной дрелью, купленной в местной скобяной лавке, для удаления кусочков кости размером с бутылочное горлышко над каждым глазом. Инструментом, похожим на рожок для обуви, он отодвинул в сторону фронтальные и височные доли Г. М. и заглянул внутрь.
Гиппокамп расположен на уровне ушей и имеет форму и диаметр загнутого большого пальца. В надежде удалить как можно меньше ткани, Сковилл сначала подверг электрической стимуляции оба гиппокампа, чтобы найти причину припадков. Не добившись успеха, он взял длинную металлическую трубку и стал вырезать и отсасывать ткань грамм за граммом; в конечном счете он удалил по семь сантиметров гиппокампа с каждой стороны. (Два выступа гиппокампа остались целыми, но поскольку Сковилл также удалил связующую ткань между ними и другими частями мозга, они были бесполезными, как отключенные компьютеры.)

Для полного эффекта Сковилл удалил миндалевидное тело Г. М. и другие близлежащие структуры. С учетом того, как глубоко эти структуры встроены в мозг, только нейрохирург мог вырезать их с такой точностью.
После операции Г. М. несколько дней пребывал в сонном состоянии, но узнавал членов своей семьи и вроде бы мог нормально поддерживать разговор. И по многим показателям операция завершилась успехом. Его личность не изменилась, припадки почти прекратились (не более двух в год), а когда туман эпилепсии рассеялся, его IQ подскочил со 104 до 117.
Осталась лишь одна проблема: память Г. М. получила смертельный удар.
Помимо нескольких островков воспоминаний – например, о том, что доктор Сковилл провел операцию, – целые десять лет памяти о том, что случилось до операции, бесследно исчезли. Хуже того, он не мог создавать новые воспоминания. Теперь имена ускользали от него, как и дни недели. Он снова и снова дословно повторял одни и те же замечания, и хотя он мог запомнить маршрут в ванную комнату на то время, чтобы дойти до нее, потом ему каждый раз приходилось спрашивать заново. Он многократно поглощал завтрак или ленч, как будто его аппетит тоже лишился памяти. Его ум превратился в решето.
В свете современных знаний дефицит памяти у Г. М. имеет объяснение. Формирование воспоминаний состоит из нескольких этапов. Сначала нейроны в коре головного мозга получают зрительную, слуховую и тактильную информацию от сенсорных нейронов. Эта способность записывать первые впечатления сохранилась у Г. М. Но, подобно посланиям на пляжном песке, эти впечатления быстро размывались.
Только следующий этап с участием нейронов гиппокампа делает воспоминания долговечными. Эти нейроны вырабатывают особые белки, которые увеличивают оконечности аксонов. В результате аксоны могут посылать больше нейротрансмиттерных пузырьков к своим соседям. В свою очередь, это укрепляет синаптические связи между этими нейронами, пока память не начинает приходить в упадок. За месяцы и годы – при условии, что первое впечатление было достаточно сильным и мы время от времени думаем о нем, – гиппокамп переносит воспоминание в кору мозга для постоянного хранения. Короче говоря, гиппокамп координирует запись и хранение воспоминаний, и без него не может быть никакой «цельной памяти».
Сковилл не мог знать об этом, но он явно нарушил работу памяти Г. М. и теперь не понимал, что делать. Поэтому несколько месяцев спустя, когда ему стало известно, что Уайлдер Пенфилд собирается опубликовать доклад о повреждении гиппокампа, он позвонил знаменитому хирургу и признался в своем бессилии.
Пенфилд недавно прооперировал двух пациентов с гиппокампальной эпилепсией. Из осторожности он удалил структуру только с одной стороны, но ему было неизвестно, что припадки уже разрушили второй гиппокамп у каждого пациента. Оставшись без действующего органа, оба человека получили самую полную амнезию, которую только видел Пенфилд. Хотя он все еще размышлял над этими случаями, но собирался представить их на научном совещании в Чикаго в 1954 году.
Когда Сковилл позвонил ему, Пенфилд якобы вышел из себя и выбранил коллегу за поспешность. Но успокоившись, ученый осознал (как и врачи в лагере Чанги), что Сковилл на самом деле провел бесценный эксперимент, который дал шанс определить рабочие функции гиппокампа. Наряду с другими исследованиями в клинике Пенфилда в Монреале следили за психологическими изменениями, которые происходили с пациентами после операций на мозге. Поэтому Пенфилд отправил в Коннектикут сотрудницу института, доктора Бренду Милнер.
После того как его память исчезла, Г. М. потерял работу и не имел другого выбора, кроме жизни вместе с родителями. Теперь он говорил монотонным голосом и не испытывал интереса к сексу, но в остальном выглядел нормальным. Возможно, соседям казалось, что он просто бездельничает. Он получил работу на полставки по упаковывке резиновых мячиков в пластиковые мешки, и выполнял мелкую работу по дому.
Хотя родителям каждый раз приходилось напоминать ему, где хранится газонокосилка, он отлично подстригал газон, потому что мог видеть нескошенные участки. Иногда он становился умеренно агрессивным; мать придиралась к нему, и он несколько раз шлепал ее по щеке или пинал в лодыжку.
Один раз, когда его дядя забрал несколько хороших ружей из оружейной коллекции отца, Г. М. пришел в ярость. (Несмотря на амнезию, он сохранил былую любовь к оружию и часто вспоминал, что собирается возобновить членство в Национальной стрелковой ассоциации.) Но большую часть времени он мирно проводил дни, либо методично решая кроссворды, либо сидя перед телевизором, где он смотрел воскресную мессу или старые кинофильмы, которые ему никогда не приедались. Это было похоже на ранний выход на пенсию до тех пор, пока не приехала Милнер.
Милнер взяла билет на ночной поезд из Монреаля до Хартфорда, прибывающий в 03.00, и провела следующие несколько дней в обществе Г. М. Ее серия тестов быстро подтвердила наблюдения Сковилла: Г. М. почти не сохранил воспоминаний о прошлом и утратил способность формировать новые воспоминания. Это уже было значительным шагом вперед – доказательством, что некоторые части мозга, а именно гиппокамп, вносят больший вклад в формирование и хранение воспоминаний, чем другие части. А следующие находки Милнер даже привели к новому определению термина «память».
Вместо того чтобы задавать ему вопросы, на которые он не мог ответить, Милнер начала проверять моторные навыки Г. М. В первую очередь она дала ему листок бумаги с двумя пятиконечными звездами, одна из которых была расположена внутри другой. Ширина внешней звезды составляла около 15 сантиметров, и между звездами имелся промежуток примерно в один сантиметр.
По условиям теста Г. М. должен был начертить карандашом третью звезду между этими двумя. Трюк заключался в том, что он не мог прямо смотреть на звезды: Милнер заслонила рисунок, и он видел их только в зеркале. Левое находилось справа, а правое слева, и каждая естественная реакция в выборе направлений оказывалась неверной.
Любой, кто впервые проходит этот зеркальный тест, путается в линиях; карандашная звезда становится похожей на кардиограмму, и Г. М. не был исключением. Однако он каким-то образом смог улучшить свои результаты. Он не помнил ни один из тридцати сеансов тренировки, через которые его провела Милнер. Но его подсознательные моторные центры все помнили, и через три дня он свободно мог начертить звезду по отражению в зеркале. Ближе к концу он даже заметил: «Как интересно… Я думал, что это будет очень трудно, но похоже, я хорошо справился».
Для Милнер этот тест был настоящим открытием. До сих пор ученые считали память монолитной: мозг сохраняет воспоминания целиком, и память повсюду одинакова. Но теперь Милнер удалось разделить два типа памяти. Существует декларативная память, которая позволяет людям запоминать имена, даты и факты; для большинства из нас это и есть «память». Но существует также процедурная память – подсознательные воспоминания о том, как управлять велосипедом или ставить подпись. Тест со звездами доказал, что, несмотря на амнезию, Г. М. мог формировать новые процедурные воспоминания. Следовательно, они опирались на другие структуры внутри мозга.
Гиппокамп координирует запись и хранение воспоминаний, и без него не может быть никакой «цельной памяти».
Это различие между процедурными и декларативными воспоминаниями (которые иногда называют «знать как» и «знать что») теперь лежит в основе всех исследований памяти. Оно также проливает свет на первоначальное развитие психики. У младенцев рано формируется процедурная память, и это объясняет, почему они довольно быстро учатся ходить и говорить. Декларативная память развивается позже, и ее первоначальная слабость мешает запоминать многие события раннего детства.
Другой тип памяти тоже был определен во время экспериментов Милнер. Однажды она попросила Г. М. помнить случайное число (584) так долго, как только возможно. Потом она оставила его на пятнадцать минут и ушла выпить кофе. Вопреки ее ожиданиям, Г. М. все еще помнил число, когда она вернулась. Каким образом? Он снова и снова шепотом повторял его.
Сходным образом Г. М. смог помнить слова «гвоздь» и «салат» в течение нескольких минут, представляя нанизанные на гвоздь салатные листья и все время напоминая себе, что он не должен есть их.
Любой отвлекающий фактор в это время выбрасывал слова из памяти Г. М., а через пять минут после окончания теста он даже не помнил, что его просили что-то запомнить. Тем не менее, пока он сохранял сосредоточенность и постоянно освежал свою память, мог держаться. Это было первым доказательством существования кратковременной памяти; более того, это показывало, что кратковременная память (которая имелась у Г. М.) и долговременная память (которой у него не было) используют разные структуры мозга.
После открытий Милнер Г. М. стал научной знаменитостью, и другие неврологи стремились к изучению его уникальной психики. Он не разочаровал их. В апреле 1958 года, через пять лет после операции, Г. М. со своими родителями переехал в маленькое бунгало в Хартфорде. В 1966 году несколько американских неврологов попросили его начертить план дома по памяти. Он справился успешно. Он не знал адреса бунгало, но снова и снова проходил через шесть комнат и впечатывал в мозг план дома. Это доказывало, что хотя наша система пространственной памяти обычно полагается на гиппокамп, при необходимости она может быть активирована другим путем (вероятно, через парагиппокамп – соседний навигационный центр).
Ученые также обнаружили, что восприятие времени у Г. М. отличалось от других людей. В интервале до двадцати секунд он определял время с такой же точностью, как любой нормальный человек. После этого начинались сильные искажения. В его субъективном восприятии пять минут продолжались лишь сорок секунд; один час длился три минуты, а один день – пятнадцать минут.
Это подразумевает, что в мозге есть два хронометриста – один для коротких интервалов, а второй для всего, что больше двадцати секунд. Только второй из них был поврежден у Г. М.
Это позволило ученым разделить сложную психическую функцию на отдельные компоненты и связать эти компоненты со структурами мозга. Более ста неврологов обследовали Г. М.; вероятно, это сделало его разум наиболее изученным в истории.
Все это время Г. М. становился старше, по крайней мере физически. В психическом отношении он застрял в 1940-х годах. Он не помнил ни одного дня рождения или похорон после этого времени; холодная война и сексуальная революция не существовали для него; такие новые слова, как «гранола» и «джакузи», навсегда остались неопределенными понятиями. Хуже того, у него часто возникало смутное ощущение беспокойства, от которого он никак не мог отделаться. Это ощущение, по словам Милнер, было «похоже на ту долю секунды поутру, когда вы просыпаетесь в комнате незнакомого отеля перед тем, как все встает на место». Только для Г. М. ничто не становилось на свои места.
В 1980 году, когда умер отец Г. М., а его мать была слишком больна, чтобы заботиться о нем, он переехал в частную лечебницу. К тому времени он немного прихрамывал; многолетний прием сильнодействующих лекарств от эпилепсии ослабил его мозжечок, и его широкая, шаркающая походка напоминала жертв куру. Он также сильно растолстел из-за слишком частого приема вторых порций пудинга или пирожных после того, как он забывал о первой. Но в целом он был вполне нормальным пациентом и жил безмятежной жизнью.
Более ста неврологов обследовали Г. М.: вероятно, это сделало его разум наиболее изученным в истории.
В те дни, когда он не проходил тесты, он читал стихи или листал журналы об оружии, наблюдал за проезжающими поездами и возился с собаками, кошками и кроликами, которые жили на территории лечебницы. Он научился пользоваться портативным кассетным магнитофоном с наушниками благодаря неповрежденным моторным центрам и даже присутствовал на тридцать пятой годовщине окончания колледжа в 1982 году. (Хотя он никого не узнавал, другие выпускники испытывали сходные трудности.) По ночам ему часто снились холмы, но он не поднимался на них, а прогуливался по вершинам.
Тем не менее прежний вспыльчивый характер Г. М. время от времени возвращался к нему. Иногда он отказывался принимать лекарства; тогда медсестры укоряли его и предупреждали, что доктор Сковилл рассердится на такое поведение. (То, что Сковилл погиб в автомобильной аварии, не имело значения. Г. М. неизменно поддавался на эту уловку.) Он также стал ввязываться в ссоры с другими пациентами. Одна мегера во время игры в бинго то и дело стирала его карточку и начинала насмехаться над ним. Иногда Г. М. в ответ убегал в свою комнату и начинал биться головой об стену или трясти свою кровать, словно горилла. Один припадок был таким буйным, что пришлось вызвать полицию.
Это были моменты чистого животного расстройства, однако в некотором смысле для него эти моменты были самыми человечными. Реальная личность на несколько секунд проступала из-под равнодушной животной оболочки. Он реагировал так же, как делали бы мы, столкнувшись с подобной участью: он впадал в ярость.
Но как только медсестра отвлекала Г. М., он забывал о своих страданиях. За исключением этих вспышек, он вел мирный образ жизни, хотя его здоровье продолжало ухудшаться. Он скончался от респираторного заболевания в 2008 году в возрасте восьмидесяти двух лет, и тогда ученые открыли миру его имя: Генри Густав Молейсон.
Мир неврологии оплакивал Молейсона: его смерть привела к многочисленным изъявлениям благодарности за его доброту и терпение, а также породила массу каламбуров о том, что он был незабываемым человеком. Его мозг до сих пор остается предметом исследований. Незадолго до его смерти в лечебнице заготовили пакеты со льдом; когда он умер, его голову обложили ими, чтобы мозг находился в охлажденном состоянии. Вскоре прибыли врачи, которые осмотрели его мозг на месте, а потом извлекли его.
После двухмесячной консервации в формалине его отправили самолетом через всю страну в Институт мозга в Сан-Диего. Там ученые несколько раз вымочили его в сахарном растворе, чтобы удалить избыток воды, а потом заморозили. Наконец, они воспользовались медицинским эквивалентом ломтерезки и разделили мозг Молейсона на 2400 срезов, каждый из которых был уложен на стеклянную пластину и сфотографирован с двадцатикратным увеличением для создания цифровой интерактивной карты вплоть от отдельных нейронов. Процесс изготовления срезов транслировался в прямом эфире по Интернету, и 400 000 человек подключились к Сети, чтобы сказать Г. М. последнее «прощай».
Хотя имя Г. М. занимает ведущее положение в научной литературе и общественном воображении, многие другие пациенты с амнезией также внесли вклад в наше понимание памяти. Возьмем случай К. С., проживавшего в пригороде Торонто.

Мозг «незабываемого пациента» Г. М. был разделен на множество срезов для будущих исследований. (Фото Джакопо Аньезе, Институт мозга в Сан-Диего)
Во время буйной и продолжительной юности К. С. импровизировал в рок-группах, участвовал в вечеринках на Марди-Гра, играл в карты до рассвета и дрался в барах. Он также дважды ударялся головой и терял сознание: один раз во время песчаных гонок на багги, а другой раз, когда на него свалился большой тюк сена. В октябре 1981 года его занесло на выезде с пандуса, когда он на большой скорости мчался на мотоцикле. Он провел месяц в палате интенсивной терапии и наряду с некоторыми другими структурами мозга потерял оба гиппокампа.
После инцидента невролог Эндель Тулвинг определил, что К. С. может хорошо запоминать определенные вещи. Но все, что он запоминал, попадало в одну ограниченную категорию: это были материалы, которые можно найти в справочниках, – например, разница между сталактитами и сталагмитами или виды клюшек для гольфа. Тулвинг называл эти голые факты семантическими воспоминаниями, лишенными контекста и эмоций.
В то же время К. С. лишился эпизодической памяти; у него не осталось воспоминаний о вещах, которые он лично делал, видел или чувствовал. К примеру, в 1979 году К. С. удивил семью вечером перед свадьбой своего брата, сделав перманентную завивку.
Он до сих пор знает, что его брат женился, и может узнать членов семьи в свадебном альбоме (факты), но не помнит, как был на свадьбе, и не имеет представления о том, как члены семьи отреагировали на его кудрявые волосы (личный опыт).
То немногое, что К. С. сохранил о своей жизни до инцидента, похоже на текст предельно краткой биографии. Даже поворотные моменты сведены к пунктам маркированного списка. Он знает, что его семье пришлось уехать из дома, где прошло его детство, потому что из-за сошедшего с рельс поезда вокруг рассеялись токсичные химикаты. Он знает, что любимый брат умер за два года до его собственного инцидента. Но эти факты больше не имеют эмоциональной нагрузки. Это просто отчет о произошедших событиях.
Данные подробности, вместе со сканированием мозга К. С., стали убедительным свидетельством того, что наши эпизодические и семантические воспоминания опираются на разные мозговые контуры. Гиппокамп участвует в первоначальной памяти обоих типов воспоминаний и помогает сохранять их в среднесрочной перспективе. Вероятно, гиппокамп также обеспечивает доступ к старым личным воспоминаниям в долгосрочной перспективе. Но, по-видимому, для доступа к старым семантическим воспоминаниям мозг пользуется парагиппокампом – продолжением гиппокампа по направлению к затылочной области.
Поэтому К. С., чьи парагиппокампы сохранились в целости, помнил разновидности клюшек для гольфа (семантическое знание), хотя все воспоминания об игре в гольф с друзьями исчезли (личное знание) (52).
Более того, если здоровый гиппокамп обычно берет на себя ответственность записывать новые семантические воспоминания, парагиппокамп может – хотя и мучительно медленно – усваивать новые факты, если ему приходится это делать.
Например, после нескольких лет работы по расстановке книг в местной библиотеке парагиппокамп К. С. усвоил десятичную систему Дьюи, хотя сам он не имел понятия, откуда знает ее.
Наши эпизодические и семантические воспоминания опираются на разные мозговые контуры.
Сходным образом здоровый парагиппокамп Г. М. сохранил несколько отдельных фактов после его операции 1953 года. Тысячу раз просмотрев ответ на вопрос кроссворда «Болезнь, от которой защищает вакцина Солка», он смутно припоминал, что это полиомиелит. Благодаря многократному просмотру газет и телепрограмм он сохранил воспоминания о высадке на Луну и об убийстве Кеннеди в 1963 году. В отличие от обычных людей он не помнил, где и когда узнал эти факты, так как утратил эпизодическую память. И его знание о событиях оставалось слабым и фрагментарным, так как парагиппокамп плохо поддается обучению. Тем не менее он помнил, что они произошли.
В то же время К. С. помог неврологам разобраться с другим важным различием в исследованиях памяти: с различием между воспоминанием и знакомством. В общепринятом смысле воспоминание означает «Я конкретно помню вот это», а знакомство – «Это звучит знакомо, хотя подробности расплывчаты». Действительно, мозг проводит такое различие.
В одном тесте для К. С. врачи составили список слов (Эль-Ниньо, спецназ), которые получили широкое распространение после его инцидента 1981 года. Потом они разбросали эти слова среди псевдослов – буквенных последовательностей, которые имели осмысленный вид, но на самом деле ничего не значили. К. С. регулярно выбирал настоящие слова и делал это с уверенностью. Но когда ему предлагали дать определение слова, он пожимал плечами.
Из списка распространенных имен он выбирал людей, которые стали знаменитыми после 1981 года (например, Билла Клинтона). Но он не имел представления, что сделал Клинтон. Иными словами, К. С. считал эти слова знакомыми, хотя конкретное воспоминание ускользало от него. Это указывает на то, что для воспоминания нужен гиппокамп, в то время как для ощущения знакомства требуются лишь определенные участки коры.
* * *
Последним типом памяти, исследованию которого способствовали пациенты с амнезией, является эмоциональная память, что неудивительно, так как гиппокамп принадлежит к лимбической системе. Возможно, потому что у Г. М. не было миндалевидного тела, он всегда благожелательно относился к ученым, наносившим ему визиты, хотя и никогда не узнавал их – даже Милнер, которая работала с ним пятьдесят лет. Но другие пациенты с амнезией не отличались таким добродушием, а некоторые были откровенно враждебными.
В 1992 году пузырьковый лишай – тот самый вирус герпеса, который «выключает» способность распознавать фрукты, животных или инструменты, – разрушил гиппокампы и другие структуры мозга у семидесятилетнего жителя Сан-Диего с инициалами Э. П. Он начал снова и снова дословно повторять одни и те же анекдоты и съедал до трех завтраков каждый день. Хотя раньше он был моряком и жил всего лишь в трех километрах от побережья, теперь он забыл даже, в каком направлении находится Тихий океан.
Врачи организовали тестирование для Э. П., он с подозрением относился к «незнакомкам» (на самом деле это каждый раз была одна и та же женщина), вторгавшимся в его дом. При каждом визите он начинал упираться, и его жене приходилось уговаривать его вести себя хорошо и усаживать на кухне за стол для тестирования.
Когда число визитов перевалило за сто, подозрения Э. П. заметно улеглись. Он стал тепло приветствовать женщину-невролога, хотя и утверждал, что раньше никогда не видел ее, и даже самостоятельно шел на кухню. Каким-то образом эмоции подсказывали ему, что этой женщине можно доверять, хотя разум говорил иное.
Но пациенты с амнезией могут сохранять и негативные эмоциональные воспоминания. Когда Г. М. узнал о смерти своего отца, на сознательном уровне он, естественно, забыл об этом через несколько минут. Но эмоциональное воспоминание сохранилось, и он воспринял это известие так тяжело, что на целый месяц погрузился в уныние, хотя и не мог объяснить причину плохого настроения.
В другом случае, который относится к 1911 году, швейцарский врач Эдуард Клапаред спрятал булавку между пальцами перед тем, как пожать руку страдавшей амнезией женщине средних лет. Когда они обменялись рукопожатием, он уколол ее. Хотя она ничего не запомнила, но при следующих встречах всегда отдергивала руку и с подозрением смотрела на него.
В общем и целом этот список пациентов с амнезией (Г. М., К. С., Э. П. и другие) помог ученым разобраться, как мозг разделяет ответственность за воспоминания (53). Процедурные воспоминания (например, моторные навыки) опираются на работу мозжечка и на определенные внутренние области серого вещества, такие как полосатое тело (стриатум).
Эпизодические, или личные, воспоминания зависят в основном от гиппокампа, в то время как семантические, или фактические, воспоминания в значительно большей степени опираются на парагиппокамп, особенно в процессе извлечения.
Фронтальные доли тоже вносят свой вклад: они участвуют в поиске воспоминаний и проводят дополнительную проверку при обнаружении воспоминаний в долговременном хранилище коры. Сенсорные и лимбические контуры воссоздают эмоциональную обстановку момента в нашем разуме. Между тем теменные и фронтальные доли нашептывают, что мы просматриваем старую информацию, так что мы не пугаемся или не загораемся нежными чувствами.
Каждый шаг происходит независимо от других, и каждый может дать сбой без малейшего нарушения остальных умственных способностей. По крайней мере теоретически.
На самом деле кажется невозможным вырвать любой аспект памяти – особенно наши эпизодические воспоминания о любимых людях и семейных праздниках, – не повредив гораздо больше. К. С. умеет играть в солитер и менять покрышки, но не может вспомнить ни одного момента радости, удовлетворения, одиночества или страсти. И, как бы парадоксально это ни выглядело, утрата его прошлого вычеркнула и его будущее.
Высшая биологическая цель памяти состоит не в самих воспоминаниях, а в подготовке к будущему – в подсказках о том, как нужно действовать в определенных ситуациях. В результате, когда К. С. потерял свое прошлое «я», вместе с ним умерло его будущее «я». Он не может рассказать вам, что будет делать через час, через день или через год; он не в состоянии даже представить это. Утрата будущего «я» не тяготит К. С., и он не сокрушается о своей участи. Но в некотором отношении это отсутствие переживаний само по себе кажется печальным. Хотя это несправедливо, трудно видеть в нем полноценного человека.
В собственном разуме мы более или менее приравниваем свою личность к воспоминаниям; наше «я» представляется как общий итог всего, что мы делали, видели и чувствовали. Поэтому мы так цепляемся за личные воспоминания, пусть даже они причиняют боль, и поэтому такие болезни, как синдром Альцгеймера, кажутся нам такими жестокими.
В самом деле, большинство из нас хочет, чтобы наши воспоминания были более надежными; они кажутся единственным бастионом, защищающим от эрозии личности, которую испытали К. С. и Г. М. Именно поэтому мы с некоторым потрясением узнаем, что противоположное бремя – алчная, чрезвычайно запасливая память, которая не может забыть, – точно так же может сокрушать личность человека.
* * *
Каждое утро, когда московский репортер Соломон Шерешевский приходил на работу, редактор назначал ему и другим репортерам дневные задания, рассказывая им, куда нужно поехать, что искать и у кого взять интервью. Несмотря на сложные инструкции, Шерешевский никогда не делал пометок, а согласно некоторым свидетельствам даже не вел записей во время интервью. Он просто запоминал.
Тем не менее Шерешевский не был выдающимся репортером, и на одном утреннем совещании в середине 1920-х годов его редактор потерял терпение, когда увидел, как Соломон беззаботно кивает ему без ручки и блокнота в руке. Он обратился к Шерешевскому и велел ему повторить инструкции. Тот сделал это дословно, а потом повторил все остальное, что говорил редактор с начала совещания. Когда коллеги недоуменно уставились на него, он только нахмурился и пожал плечами. Разве не все обладают абсолютной памятью? Наполовину изумленный, наполовину испуганный, редактор послал Шерешевского к местному неврологу Александру Лурии.
Хотя тогда Лурия был молодым человеком, он уже встал на тот путь, который сделал его одним из самых прославленных неврологов XX века. Он был романтиком от неврологии, и для него эта наука включала гораздо больше, чем клетки и нейронные контуры. Ему хотелось уловить, как люди на самом деле воспринимают жизнь, даже в неприглядных ее аспектах.
Поэтому он плыл против течения современной науки, которая отмахивается от анекдотических случаев («Понимаете, это не имеет отношения к делу…»). Но индивидуальные предметные исследования всегда имели важнейшее значение для неврологии; как и в лучшей художественной литературе, частные подробности жизни людей раскрывают универсальные истины. Объемистые предметные исследования Лурии называли «неврологическими романами», и он написал один из своих лучших романов о Шерешевском.
За все годы их сотрудничества Лурия не обнаружил «четких границ» памяти Шерешевского (54). Этот человек мог запоминать и пересказывать списки из тридцати, пятидесяти или семидесяти случайно выбранных слов или чисел в прямой или обратной последовательности, один раз услышав или прочитав их. Ему было необходимо лишь три секунды перед каждым пунктом, чтобы зафиксировать его в гиппокампе; все остальное было делом техники. Более того, все, что он запоминал, оставалось с ним на долгие годы. В одном из тестов Лурия прочитал первые стансы «Ада» Данте по-итальянски; Шерешевский не знал этого языка. Пятнадцать лет спустя без каких-либо репетиций Шерешевский воспроизвел эти строки по памяти, со всеми акцентами и поэтическими отступлениями. Nel mezzo del cammin di nostra vita…
Вы можете подумать, что у Шерешевского не было отбоя от предложений высокооплачиваемой работы, но, как и многие так называемые мнемоники, он беззаботно дрейфовал между разными занятиями и работал музыкантом, репортером, кадровым консультантом и актером водевиля (запоминание реплик не представляло для него никакого труда).
Непригодный для чего-то еще, он в конце концов стал выступать в цирковом шоу, разъезжая по стране и демонстрируя свои необыкновенные мнемонические способности. Противоречие между его очевидными талантами и низким статусом угнетало Шерешевского, но для Лурии это имело смысл. Дело в том, что Лурия установил единый источник его мнемонических талантов и одновременно неспособности подолгу задерживаться на одной работе: чрезмерно развитую синестезию.
В разуме Шерешевского не существовало реальных границ между видами чувственного восприятия. «Каждый звук, который он слышал, мгновенно порождал световое, цветовое, вкусовое и осязательное ощущение», – писал Лурия. Но в отличие от «обычных» людей с синестезией, чьи дополнительные ощущения довольно банальны (простые запахи, простые оттенки), Шерешевский воспринимал целые сцены и мысленные постановки.
Вместо фиолетовой двойки или винно-красной шестерки двойка становилась «отважной женщиной», а шестерка «мужчиной с распухшей ногой». Число 87 ассоциировалось с толстушкой, флиртовавшей с молодым человеком, который подкручивал усы. Яркий образ каждого пункта без труда позволял вспомнить его впоследствии.
Потом, чтобы запомнить порядок пунктов из списка, Шерешевский пользовался мысленным трюком. Он представлял, как идет по улице в Москве или в своем родном городе (не стоит и говорить, что он наизусть помнил все улицы) и «загружает» каждый образ в качестве ориентира. К примеру, каждый слог стихов Данте соответствовал образу балерины, козы или вопящей женщины, который он затем клал возле камня, ограды или дерева, которые проходил в данный момент своей мысленной прогулки. Для последующего воспроизведения он просто повторял этот маршрут и «подбирал» образ, оставленный раньше. (Профессиональные мнемоники до сих пор пользуются этим трюком.)
Этот метод не срабатывал лишь в тех случаях, когда Шерешевский делал какую-нибудь глупость – например, оставлял образы в темных переулках. В таких случаях ему не удавалось извлечь образ, и он пропускал соответствующий пункт из списка. Для наблюдателя это выглядело как пробел в его памяти. Но Лурия понимал, что это скорее ошибка восприятия, а не памяти; Шерешевский просто не мог увидеть образ, и не более того.
Высшая биологическая цель памяти состоит не в самих воспоминаниях, а в подготовке к будущему – в подсказках, как нужно действовать в определенных ситуациях.
Память Шерешевского позволяла ему проделывать и другие трюки. Он мог увеличить частоту пульса и даже заставить себя обильно потеть, просто вспоминая то время, когда догонял уходящий поезд. Он также мог (и Лурия подтвердил это с помощью термометров) повышать температуру правой руки, вспоминая тот момент, когда держал ее рядом с плитой, и одновременно понижать температуру левой руки, вспоминая прикосновение льда. Шерешевский даже мог мысленно блокировать боль, когда находился в зубоврачебном кресле. Его память подавала сигнал «это воспоминание, а не происходит на самом деле» из фронтальных и теменных долей, подавлявший соматические реакции.
К сожалению, Шерешевский не всегда мог обуздывать свое воображение или ограничивать его мнемоническими фокусами. При чтении книги синестетические образы начинали лавинообразно умножаться в его голове, вытесняя текст. Прочитав несколько фраз, он уже был ошеломлен. Разговоры тоже могли принимать дурной оборот. Однажды он спросил девушку в кафе-мороженом, какой вкус она ощущает. Ее невинный ответ «фруктовый», по его словам, вызвал извержение «целой кучи углей или черного пепла из ее рта. Я не смог заставить себя купить такое же мороженое».
Его слова кажутся безумными или похожими на видения Хантера С. Томпсона во времена его худших наркотических видений. Если буквы меню были расплывчатыми, еда казалась Шерешевскому грязной. Он не мог есть майонез, потому что звук «з» вызывал у него тошноту. Неудивительно, что ему было трудно найти новую работу: простые инструкции мутировали в его воображении и ошеломляли его.
Даже работа странствующего клоуна-мнемоника стала угнетать Шерешевского. После многолетних представлений он чувствовал, что старые списки чисел и слов начинают возвращаться к нему и устраивают какофонию внутри его черепа. Чтобы избавиться от них, он прибегнул к разновидности магии вуду, записывая их на бумаге и сжигая в печи. Но эти попытки экзорцизма оказались безуспешными. Облечение наступило лишь после того, как он сознательно приучил свой разум подавлять эти воспоминания и не принимать их. Лишь притупление памяти сняло остроту проблемы.
Большинство людей, встречавшихся с Шерешевским, считали его слабым и посредственным, этаким неуклюжим Пруфроком. А он видел себя патетичной фигурой, потратившей свой талант на сценические выступления. Но что еще он мог сделать? С таким множеством воспоминаний, втиснутых в его череп, – его память простиралась в прошлое до дня появления на свет или еще раньше, – разум превратился в то, что один комментатор назвал «мусорной кучей впечатлений». В результате он жил в настоящем лабиринте, почти такой же потерянный и беспомощный, как К. С или Г. М. Такая абсолютная память почти так же «хороша», как амнезия.
Для того чтобы приносить пользу и обогащать нашу жизнь, память не должна просто записывать мир вокруг нас. Она должна фильтровать и проводить различия. Решето – неудачная аллегория плохой памяти. Решето пропускает воду, но удерживает материальные вещи, которые мы хотим сохранить. Подобным образом память функционирует лучше всего, когда мы избавляемся от некоторых вещей вроде травматических воспоминаний. Любой нормальный мозг похож на решето – и слава богу.
* * *
Человеческая память не просто фильтрует события. На самом деле наши воспоминания перерабатывают и – с удивительной регулярностью и изобретательностью – искажают то, что остается в прошлом.
Даже неврологи, которые, казалось бы, должны владеть собой, становятся жертвами таких искажений. Отто Леви, чей сон о лягушачьих сердцах помог доказать теорию нейротрансмиссии, якобы увидел этот сон в выходные перед Пасхой 1920 года. Некоторые ученые скептики считают, что Леви не поспешил в свою лабораторию в три часа утра, но шаг за шагом записал подробности эксперимента и снова лег спать.
Шерешевский мог мысленно блокировать боль, когда находился в зубоврачебном кресле.
Возможно, Леви, который любил рассказывать истории, позволил требованиям драматического повествования вторгнуться в свою память. Сходным образом Уильям Шарп, который удалил железы мертвого великана, пока члены его семьи негодовали в соседнем помещении, не мог этого сделать 31 декабря (как он утверждал), потому что великан умер в середине января. Кроме того, коллега Шарпа впоследствии утверждал, что сопровождал его во время тайной вылазки, а также говорил, что они копались во внутренностях великана не прямо перед похоронной церемонией, а гораздо раньше, около двух часов ночи. Оба они не могут быть правы одновременно.
Почему это происходит? Почему воспоминания изгибаются, как металлические балки в пламени, а потом застывают и принимают искаженную форму? Неврологи расходятся во мнениях. Но одна теория, набирающая популярность, гласит, что сам акт запоминания – который, казалось бы, должен закреплять детали события, – позволяет ошибкам вкрадываться в этот процесс.
В процессе запоминания нейроны оперативно формируют кратко-срочную связь. Потом они укрепляют эти связи особыми белками: это называется консолидацией. Однако мозг может пользоваться этими белками не только для закрепления воспоминаний, но также для извлечения и воспроизведения воспоминаний.
Вот наглядный пример. Если вы включаете гудок, а потом бьете мышь электрическим током, она точно запомнит это. Включите гудок еще раз, и она в ужасе застынет, предчувствуя очередной разряд. Но ученые обнаружили, что они могут заставить мышь забыть об ужасе. Незадолго до второго гудка они вводят в мозг мыши вещество, которое подавляет белки, удерживающие воспоминания. Когда гудок раздается в следующий раз, мышь продолжает заниматься своими мышиными делами. Без этих белков память остается заблокированной, и мышь больше не боится гудков.
Это подразумевает, что при вспоминании чего-либо наш мозг, возможно, не просто воспроизводит первоначальный «основной файл». Вместо этого ему каждый раз приходится воссоздавать и перезаписывать воспоминание. Когда эта запись нарушается, как это было у мыши, воспоминание исчезает. Эта теория, называемая повторной консолидацией, гласит, что разница между записью наших первых мнемонических впечатлений и их вспоминанием на самом деле очень незначительна.
Но мыши не являются маленькими людьми: люди имеют более полные и богатые воспоминания, и наша память работает по-другому, хотя на молекулярном уровне разница не так уж велика. Если повторная консолидация происходит у людей – а есть свидетельства, что она происходит, – то необходимость многократной перезаписи воспоминаний, вероятно, делает ее неустойчивой и больше подверженной искажениям.
По правде говоря, нормальные люди редко забывают события целиком и полностью, как это бывает у мышей. Но мы постоянно путаемся в подробностях (55), особенно связанных с личной жизнью. Отсюда следует тревожный вывод, что наши лучшие воспоминания – самые нежные моменты, самые важные события – могут быть наиболее подвержены искажениям, потому что мы чаще всего вспоминаем их.
Почему же это происходит? Потому что мы люди. Последующие события и новые знания всегда могут оказать влияние на память: вы никогда не будете вспоминать своего первого ухажера с такой же нежностью, если этот сукин сын потом обманул вас. Поэтому вы задним умом пересматриваете ситуацию в целом и убеждаете себя, что он с самого начала обманывал вас.
При вспоминании наш мозг каждый раз воссоздает и перезаписывает воспоминание.
Мы не храним воспоминания так же, как это происходит на жестком диске, где каждый фрагмент информации находится в строго определенном месте. Человеческие воспоминания существуют в перекрывающихся нейронных контурах, которые со временем дают утечку. (Некоторые наблюдатели сравнивали это с редактированием Википедии, где каждый «нейрон» может исказить первоначальный материал.) Но, пожалуй, самое главное в том, что у нас есть потребность сохранить лицо или спасти свою репутацию, либо пропуская определенные факты, либо интерпретируя их по своему усмотрению. В сущности, некоторые ученые считают, что подсознание занимается конфабуляцией – выдумывает правдоподобные истории, маскирующие наши истинные побуждения, – гораздо чаще, чем мы готовы признать.
В отличие от жертв синдрома Корсакова нормальные люди не занимаются конфабуляцией из-за пробелов в памяти. Но мы ретушируем то, что вспоминаем, и подавляем то, что трудно отретушировать. В результате мы «помним» то, о чем хотим помнить, и можем поверить, что сон, изменивший нашу жизнь, действительно приснился в ночь перед Пасхой. Воспоминания – это мемуары, а не автобиографии. И воспоминания, которые мы лелеем больше всего, могут превращать нас всех в правдивых лжецов.
Назад: Часть V Сознание
Дальше: Глава 11 Слева, справа и в центре

