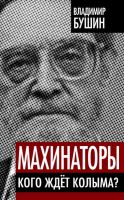Книга: Россия и русские в современном мире
Назад: С позиции защитника идеи Родины
На главную: Предисловие
Трудный диалог
Стоит ли читать Нарочницкую?
Книга Наталии Нарочницкой «За что и с кем мы воевали» – событие важное и знаменательное. Не часто у нас можно встретить российского автора, так пишущего о Второй мировой войне, ставшей для всех советских людей «Великой Отечественной», – обращаясь при этом преимущественно к западной аудитории. Война, ее ход, а также ее последствия и взаимные претензии сторон сформировали во многом основы современной западной культуры. Этот конфликт делит все четко на «до» и «после». И даже если карта современной Европы существенно отличается от того, что представляла собой Европа в 1945 г., а по ряду факторов, в частности, в связи с балканским вопросом, сегодняшняя ситуация куда ближе к 1914 г., нельзя все же забывать о том, что мы являемся наследниками именно войны 1945 г. и всех тех последствий, которые она за собой повлекла.
И тон, и содержание книги могут, по меньшей мере, удивить, если не сказать больше. Но именно в этом-то и состоит вся важность данного труда, делающая необходимым знакомство с ним. Таким образом, книгу Н. Нарочницкой стоит прочитать. Однако это чтение предполагает отнюдь не увеселительное времяпрепровождение, но работу с очень жестким и хлестким текстом, ярким, а по целому ряду моментов, возможно, даже излишне эмоциональным, крайне неудобным, разрушающим нашу комфортную уверенность и привычные представления об истории. Прочесть эту книгу необходимо сегодня всем тем, кто стремится понять не только происходящие в России изменения, но также лучше понять европейскую реальность в ее историческом и политическом аспекте, не ограничиваясь рамками того институционального и политического перекраивания, которым охвачена современная Европа. Такого рода чтение необходимо, чтобы начать плодотворный диалог, от которого зависит наше будущее. Вопрос лишь в том, способны ли мы сегодня во Франции и в Европе читать такого рода литературу?
А между тем книга эта действительно дает пищу для размышлений, будь то сами развиваемые в ней идеи, общий тон высказываний или же занимаемая автором позиция. Здесь мы найдем то, что вряд ли можно встретить в более сдержанных и, без сомнения, более конъюнктурных работах. По трем обозначенным параметрам – идеи, риторика, позиция – книга Н. Нарочницкой, безусловно, стала сегодня важным прецедентом на пути развития франко-российского диалога. А потому заслуживает внимания как с точки зрения изложенного в ней материала, так и по целому спектру затрагиваемых там вопросов, далеко выходящих за рамки самой книги.
Не трудно предположить, что данный текст вызовет массу споров и волну резкой критики. Но, невзирая на его частные особенности, нельзя не отметить одну важную вещь: он вскрывает все те взаимные представления, осознанные или нет, которые препятствуют сегодня развитию диалога между Россией и Западной Европой.
Читатель, не слишком хорошо разбирающийся в событиях, происходивших в СССР и России начиная с 1986 г., черпавший информацию из западной прессы, в течение всех этих лет активно муссировавшей особенности «переходного» периода, будет испытывать весьма смешанные и противоречивые чувства, от полного отторжения до удовлетворения. Отторжение будет вызвано, прежде всего, тем, что некоторые заявления автора приведут читателя к нелегкому выбору между его собственными убеждениями и убеждениями его совести. Национализм, отчетливо проступающий на страницах этого эмоционального текста, особенно неприемлем в Европе, где сегодня пытаются вычеркнуть и искоренить такое понятие как «нация»; и неважно, что для этого приходится порой открыто нарушать избирательные права граждан. Высказывания о Сталине, об отдельных страницах российской истории и истории СССР, вне всякого сомнения, шокируют европейскую публику. А заявления автора о намерениях и политике иностранных государств в отношении России покажутся просто скандальными.
Да, перу Н. Нарочницкой принадлежат и откровенно скандальные заявления, некоторые из которых являются своего рода классикой жанра. Но не стоит забывать, что одной из задач данной работы является желание вызвать у читателя живую реакцию, отклик, а не усыпить его. Среди скандальных заявлений немало и сугубо авторских. И для того, чтобы попытаться их опротестовать, необходимо сначала понять их природу, для чего, в свою очередь, следует изучить их все до конца, а не отбрасывать с ходу, едва начав читать.
Чувство удовлетворения принесет неискушенному читателю подкрепление некоторых его упрощенных представлений о современной России. Он готов в какой-то степени к восприятию различного рода преувеличений; и он их, бесспорно, найдет, удостоверившись, таким образом, в правоте своих собственных взглядов. Однако не стоит приравнивать сочинения Н. Нарочницкой к простой пропаганде, ибо в них содержится немало важного и правдивого. Ведь тогда есть риск, что данная работа, призывающая к диалогу между Россией и Западом, и в частности между Россией и Францией, лишь упрочит мифы, которые, собственно, и делают этот диалог таким трудным.
И все же и стиль, и общая направленность книги представляют собой куда меньшую угрозу осложнения данного диалога, нежели то и дело возвращающаяся во французскую интеллектуальную жизнь тенденция вести диалог с самими собой. Мы способны слышать других только тогда, когда их речи напоминают наши собственные. Но в таком случае можем ли мы вообще говорить о диалоге?
Н. Нарочницкая права, когда пишет о непонимании между Россией и Западом. И нам остается только верить, что проблема не носит более глобальный характер.
Разговор начистоту или разговор с самим собой?
Тот, кто намеревается прочитать данный труд, должен быть готов принять в расчет другую, отличную от его собственной, позицию, а также не претендовать на знание абсолютной истины. Только тогда найдутся все необходимые элементы, чтобы начать настоящий диалог. Если же нет, то из этого прочтения выйдет лишь разговор с самим собой человека, обращающегося к своим собственным представлениям как к истине в последней инстанции.
Чтение книги Н. Нарочницкой – это зарядка для ума и своего рода его очищение, когда нам, пусть на время, необходимо освободиться от своих привычных представлений и убеждений и пойти в другом направлении, следуя ходу мыслей другого человека. Нам нужно постараться понять, откуда исходят его представления и убеждения, если, конечно, мы действительно хотим понять и оценить правомерность наших собственных.
Но ведение диалога с другим не предполагает и безоговорочного соглашения с ним во всем. В таком случае диалога тоже не получится. И в этом тексте Н. Нарочницкой есть множество утверждений, с которыми я не могу согласиться. Они не кажутся мне верными не потому, что принадлежат данному автору, и не потому, что они отражают преобладающую сегодня в России точку зрения, или же априорно задевают меня и мои собственные убеждения, но потому, что я располагаю необходимыми аргументами для доказательства, в чем именно они ошибочны. Тем не менее, я утверждаю, что цепляться за эти ошибки, ставя под сомнение весь текст книги и отвергая диалог, который она предваряет, значило бы совершить более капитальную и гораздо более непростительную ошибку, чем те, которые были допущены Наталией Нарочницкой в некоторых моментах. Я утверждаю также, что если этот текст и содержит спорные моменты, то наряду с этим он содержит и множество справедливых замечаний; отметание же вторых в пользу первых представляется очень слабой доказательной базой.
Вести диалог с другим – значит постараться понять, с каких позиций он с нами говорит. Но, конечно, когда кто-либо претендует на знание абсолютной истины, как это часто бывает во Франции и на Западе при обсуждении вопросов Демократии и Свободы, все эти старания тщетны. Однако что же, в сущности, помимо нравоучений, тешащих наше самолюбие, ежедневно раздающихся с экранов и печатающихся в прессе, что делает нас столь уверенными в том, что истина на нашей стороне? Чего стоят наши демократические убеждения сегодня, в начале XXI века?
Запад, если вообще эта концепция еще имеет смысл, слишком инструментализировал самые ничтожные, а также самые важные и первостепенные потребности демократии и прав человека для того, чтобы его утверждения об обладании абсолютной истиной имели хоть сколько-нибудь приемлемое основание. Я не стану развивать здесь эту тему, так как уже дал анализ этой ситуации в одной из своих работ, ситуации, которую следует принимать в расчет, ситуации, в которой была написана и данная книга.
Таким образом, выстраивание пространства для диалога обязывает понимать контекст. Контекст этой книги есть не что иное, как возвращение России на мировую арену.Возвращение России
Книга Н. Нарочницкой вписывается в русло двойного, одновременно материального и символического, движения к возвращению России на мировую арену, которое нельзя сбрасывать со счетов, иначе это помешает понять доводы автора книги и не позволит в полной мере осознать ее замысел.
В 90-е, с 1991 по 1997 г., Россия чуть было не погибла, пройдя через беспрецедентный в истории тройной кризис. Прежде всего, это был экономический кризис, который коснулся производства, рухнувшего наполовину под комплексным воздействием беспорядков переходного периода и неолиберальной политики государства, разработанной при поддержке западных правительств и международных финансовых институтов. Ему на смену пришел политический кризис, когда Борис Ельцин и его либеральные советники, при поддержке США и ряда западноевропейских государств, положили конец процессу демократизации, начатому в 1993 году Михаилом Горбачевым, распустив антиконституционным способом российский парламент. Затем, на волне этого «первородного греха» российского либерализма, будет начата и война в Чечне (декабрь 1994 г.), и трюкачество на президентских выборах в 1996 г. Наконец, надо отметить социальный кризис с его методичным разрушением системы ценностей, свойственных современному развитому обществу, кризис, в котором жила Россия в период с 1992 по 1998 г., когда грабежи, проституция и криминал были единственными видами деятельности, предлагаемыми молодежи.
Серьезные кризисы случались и в других странах. Начиная с Великой депрессии и до финансовых кризисов, произошедших в новых, бурно развивающихся экономиках в 80—90-е гг. Этот список можно довольно долго продолжать. Можно также составить и внушительный список политических кризисов, не говоря уже о социальных и нравственных конфликтах, которые потрясли разные страны мира в последние десятилетия. Однако само сочетание сразу трех кризисов, которые испытала на себе Россия, а также их накал делают историю России уникальной.
Попытки понять сегодняшнюю Россию, абстрагируясь от периода 90-х годов, будут являться либо верхом невежества, либо нечестности. И снять с себя всю ответственность за идеи, которые пропагандировались западными странами в этой катастрофе, а также забыть об их активном участии в политике, которая привела Россию на край пропасти, наконец, забыть о политиках и экспертах, субсидируемых западными правительствами и международными институтами, означало бы обнаружить злонамеренность в отношении России, полностью подтвердив, таким образом, идею антироссийского «заговора».
С сентября 1998 года Россия начинает постепенно оправляться от кризиса. Когда она, казалось, достигла самого дна в результате дефолта в августе 1998-го, назначение Евгения Примакова на пост премьер-министра 1 сентября того же года ознаменовало собой начало ее обновления. Шаг за шагом, не без колебаний и ошибок, страна встала на путь своего экономического, политического и социального возрождения. И видеть причину этого возрождения лишь в росте мировых цен на энергоресурсы, опять-таки повторю, сродни невежеству и лицемерию. Цены на энергоресурсы значительно поднялись лишь с лета 2002 г., в то время как экономический подъем в России стал ощущаться уже с зимы 1998/99 г. МВФ, будучи не в силах понять, как это было можно обойтись без его предписаний в сложившейся ситуации, спрогнозировал падение ВВП России на 7 % в 1999 г. В действительности же ее ВВП увеличился на 6 %. Погрешность более чем на 12 пунктов, совершенная экспертами из Вашингтона, примечательна не только в силу величины расхождения показателей, достойной занесения в Книгу рекордов Гиннесса… Она указывает на наличие идеологического и политического антироссийского курса, проводимого определенными кругами. Уже с начала 1999 г. отчетливо читались все признаки подъема России после кризиса. И если кому-то они не были видны, так это потому, что их просто не хотели видеть.
Экономический рост продолжился в 2000 г., превысив 10 %, и более уже никем не ставился под сомнение. Владимир Путин смог провести одновременно прагматичную и реактивную политику, которая позволила России укрепить позиции, занятые в результате действий, предпринятых правительством Е. Примакова в течение трагических недель августа и начала осени 1998 г. Повышение мировых цен на сырье, начавшееся с 2003 г., также способствовало росту экономических показателей. Но этот ресурс мог бы со временем сойти на нет точно так же, как это было в других странах. В этой связи внедрение экономической стратегии, направленной на смену статуса сырьевой державы, является заслугой В. Путина и всех правительств, начиная с 2003 г.
Вышесказанное не означает, что все идет великолепно и все проблемы решены. Согласно показателям ВВП, Россия оправилась от кризиса, спровоцированного трагическим неолиберальным экспериментом 1991–1998 гг., только к началу 2007 г. Страна до сих пор еще не отошла от социального шока, вызванного поистине драматическим обеднением населения в 90-е годы. Однако сегодня нет никаких сомнений, что Россия на верном пути.
Таким образом, нам трудно было бы понять ярую критику Н. Нарочницкой в адрес либерализма вне данного исторического контекста. Невозможно было бы осознать и всю важность, которую для нее приобретают вопросы «нации» и «национальной судьбы», не вспомнив о роли иностранного вмешательства в дела России в тяжелые для нее времена или о постоянных искажениях на Западе действий и слов российского руководства – с того самого момента, как то взяло курс на восстановление страны.
Автору этих строк, начиная с 1988 г., удалось лично и достаточно регулярно бывать в СССР в разгар перестройки, а затем и в России во время переходного периода. Он преподавал там с 1993 по 2000 г., а затем вновь с 2006 г. С 1991 г. он имел возможность участвовать на правах эксперта в различного рода заседаниях МВФ и Всемирного Банка. Таким образом, он неоднократно мог иметь возможность наблюдать за скандальными действиями отдельных западных экспертов и советников. Практика вмешательства в дела другого государства и практика, умышленно нацеленная на искажение действий российского руководства, а также искажение ситуации, здесь была налицо. И об этом уже тоже было немало сказано.
Проблема заключается не в том, чтобы удостовериться, были ли акты, враждебные по отношению к России, инициированы западными государствами и, в первую очередь, США, но в том, чтобы удостовериться в существовании исторического заговора, о котором пишет Н. Нарочницкая в своей книге. Лично я в этом не убежден.
Не то чтоб «антироссийской» политики никогда не было и «антироссийские» идеи по-прежнему не вынашивались сегодня в администрации некоторых стран. Это как раз ощущается. И не только в США, но и в Великобритании, и даже в кулуарах Европарламента в Брюсселе. Не то чтоб в западной культуре не существовало априорно антироссийских настроений, формы выражения которых весьма разнообразны. Все это так, но, возможно, автору, справедливости ради, нужно было наряду с отнюдь небеспристрастными формулировками в отношении России, написанными Фридрихом Энгельсом от лица европейской интеллигенции XIX века, давать и выдержки из К. Маркса о позитивной роли «мира» (т. е. русской общины. – Прим. ред.) и возможного русского пути к коммунизму.
Кроме того, действительность, с которой столкнулся автор данной статьи, чаще всего свидетельствовала о наличии своеобразного симбиоза из неолиберального догматизма, недостатка политической воли и алчного подхода у предполагаемых «заговорщиков», нежели доказывала существование какого-то совместного политического проекта, целиком и полностью продуманного и последовательно внедряемого на протяжении десятилетий. К счастью, как для России, так и для Европы, эти ярые антироссийские круги не смогли представить никакой совместной стратегии. Так, в 1993–1995 гг. можно было услышать множество пространных речей о необходимости «дезиндустриализации России» или разделении ее на 20 микрогосударств. Но сторонники данного подхода не смогли в то время собрать вокруг себя необходимую критическую массу, которая позволила бы им осуществить столь мрачные замыслы. Развал промышленности, который пережила Россия в 1991–1998 гг., является не столько результатом заговора, сколько последствием совершенно негибкой, догматичной экономической политики, свойственной далеко не только для России той поры, но применяемой и в других странах (таких как Франция) с подобным же результатом.
Чтобы до конца понять политику, проводимую в отношении России переходного периода, необходимо также сказать и о жесткой конкуренции, существовавшей между активно внедрившимися в процесс российской перестройки западными агентствами и организациями, и о конфликтах, сталкивавших старую и новую администрацию, и об инструментализации и использовании всего, что только появлялось в России того периода, для внутриполитических целей США. Рискуя разочаровать любителей великих исторических разоблачений, скажу лишь: это была одна из тех катастроф, что являются обычно результатом сочетания глупости и жадности, предвзятого и ограниченного догматизма с чиновничьим эгоизмом. Свидетелями же этих уродливых союзов выступают раболепство, конформизм и посредственность.
Гоголь говорил, что у России две беды: дураки и дороги. У нас на Западе качество вторых «компенсируется» злобностью первых.
Некоторые утверждения, высказанные Н. Нарочницкой, кажутся мне преувеличенными и несправедливыми, вызванными скорее эмоциями, нежели анализом фактов. Но есть и другие, отражающие реальность, которая не подлежит сомнению.
Тем же, кто хотел бы похоронить ее книгу, посчитав ее содержание параноидальным, я хотел бы напомнить, что и у параноиков бывают враги.
Увы, у России врагов всегда хватало.Нация и национализм
Из описанного выше общего контекста ясно, что такое понятие, как нация, вновь становится неотъемлемым элементом нашего сознания и что национализм вновь набирает обороты. Для многих наших напудренных и завитых Версальцев медийного формата эти два термина абсолютно неприемлемы. И хотя, бесспорно, как нация, так и национализм имеют позади трагичное прошлое, однако разве разрушили мы в 1945 г. все железнодорожные пути лишь потому, что те служили одним из основных инструментов нацистского геноцида?
В России возвращение чувства национального самосознания было неизбежным, учитывая события 1991–1998 гг. Оно было просто необходимо при том скачке, который совершила страна, преодолевая кризис и начав заново возрождаться. Если люди перестают верить в свою страну, то тогда единственный выход – это эмиграция. Если они теряют веру в общее для них будущее, то самые ужасные преступления становятся законом.
Когда мы вспоминаем о дефолте 1998 г., нужно понимать, что именно идея национального самосознания, на тот момент отождествлявшаяся для многих с личностью Евгения Примакова, позволила всем, начиная с высших эшелонов власти и до рядовых граждан, не опустить руки. Никакое государственное обновление, никакая экономическая политика и никакая стратегия развития невозможны, если не думать о нации.
Неудивительно, что в стране, где полным ходом идет такое гигантское строительство, мы обнаруживаем сегодня присутствие национализма; гораздо более странным выглядело бы его отсутствие.
Особенно восприимчивой к такому повороту в сторону национализма оказалась молодежь, и особенно студенчество. Этот поворот произошел на самом деле еще до 1998 г., хотя, конечно, августовские события во многом способствовали ускорению процесса. В последующие годы национализм все больше акцентировался и окончательно укрепился. И сегодня чувство национального самосознания является некой данностью для молодежи, в ранней юности пережившей мрачные 90-е годы. Когда преподаешь в России столько лет, сколько довелось автору этих строк, такого поворота невозможно не заметить, и ему не перестаешь поражаться.
Такое поведение, и надо сразу это уточнить, никогда не заключало и не заключает в себе агрессии. Образованная российская молодежь первой заметила, что нельзя построить какой бы то ни было долгосрочный проект без проекта коллективного и что невозможно построить коллективный долгосрочный проект в масштабах страны без опоры на такое понятие, как нация.
Появление национализма или, используя русский термин, патриотизма не может вызывать ни удивления, ни критики в контексте современной действительности. Это не означает, что данное чувство не может принимать иногда уродливые формы вроде упертого шовинизма или же крайне опасной ксенофобии. Но такого рода практика в целом не свойственна русскому народу и России. В России количественное соотношение расовых преступлений и агрессии к общему числу населения не превышает показателей западноевропейских государств. Из этого вовсе не следует, что за эти преступления не нужно наказывать всякий раз по всей строгости закона. Просто стоит ли искать соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном?
Н. Нарочницкая права, когда приглашает нас обратиться к национальному фактору как к структурирующему. Ее утверждение о тесной связи между православием и национальным самосознанием само по себе не удивительно. Недавние исследования показали, какую роль духовное сознание может играть в организации и определении пространства. Однако говорить о непосредственной, прямой связи между ними вряд ли возможно уже только потому, что не все русские – православные и не все православные живут в России.
На самом деле, за всей своей очевидностью, связь между Россией и православием таит в себе немало проблем как для русского националиста, так и для православного верующего. Первый не может выстроить образ нации, не принимая в расчет граждан, исповедующих другую веру или же вовсе не принадлежащих ни к одной из конфессий. Второй не приемлет ограничения мироздания рамками какой бы то ни было одной нации. Работа Н. Нарочницкой не допускает, вследствие слишком инструментализированного подхода в определении связи нации и религии, иных мнений по одному из ключевых вопросов современного государственного строительства – вопросу о светскости. В России этот вопрос был и продолжает оставаться за кадром, так как воинствующий атеизм советской поры основан, по сути, абсолютно на том же, что и речи об автократии и религии государства.
Также очень спорной представляется та параллель, которую автор проводит, говоря о советской истории и национальной идентичности, о развитии национальной динамики и сталинским периоде. Любопытно и симптоматично, что она, инвертируя смысл, рассматривает историю революции такой, какой ее сфабриковали большевики.
Радужным представлениям о решающей роли передового авангарда в истории революции она противопоставляет мрачное повествование о группе путчистов, финансируемых из-за границы. Но эти два мифа противопоставляются лишь внешне. Общим для них является отрицание социальной реальности и общественных движений в пользу конспиративного прочтения истории с позиции заговора. Общим является также несколько идиллическое представление об экономическом развитии России до 1914 года. Такое представление необходимо для большевистского прочтения истории, предполагавшего, что, будучи крупной капиталистической страной, Россия созрела для социалистической революции. Такое видение характерно и для реакционного прочтения истории, предполагающего, что спонтанный процесс модернизации России был сломлен большевистским ударом. Как первое, так и второе видение являются заблуждениями.
Российская революция берет начало вовсе не со всем известных переговоров Парвуса с немецким штабом. Если бы это было действительно так, то власть большевиков очень скоро бы рухнула. Ее истоки заключены в противоречиях схемы развития России, назревших к концу XIX века, и в неспособности царского режима к проведению полномасштабного национального проекта модернизации.Нация и революция, забытый парадокс
Модель развития, существовавшая в России в 1880–1914 гг., была отмечена контролем государства над экономической сферой, осуществляемым либо за счет деятельности государственных предприятий и оборонного бюджета, либо посредством денежной и налоговой политики.
Эта модель отличалась сильным ростом, по крайней мере, до русско-японской войны 1904–1905 гг. Россия действительно шла по пути модернизации, правда, одновременно удаляясь от существовавшей на тот момент в Западной Европе либерально-экономической модели. Однако за этим ростом скрывался и определенный дисбаланс; так, рост во многом осуществлялся за счет сельского хозяйства, облагаемого высокими налогами, а едва возникшее предпринимательское сообщество разъедалось изнутри стойким антагонизмом.
Таким образом, в российской модели 1914 года имелось двойное противоречие. С одной стороны, эта модель сталкивалась с крестьянством, представлявшим подавляющее большинство населения страны. Неспособность царского режима к аграрному реформированию, столь необходимому после упразднения крепостничества, и довольно быстрый провал реформы Столыпина являются двумя причинами, по которым «крестьянский вопрос» стал первым фундаментальным противоречием, терзавшим Россию до 1917 года. Вторым таким противоречием были постоянные конфликты между политической и промышленной элитой России. Если первое противоречие широко известно, то второе практически нигде не упоминается, в то время как является не менее важным для понимания причин падения царизма и установления советской системы.
Противоречия экономической модели России, существовавшей до 1914 г., лишь обострились с началом Первой мировой войны. Российское руководство столкнулось с ситуацией, когда потребовалась резкая перестройка экономики, необходимая для ведения войны и поддержания боеспособности армии. Поражения, одно за другим последовавшие за призрачными успехами первых недель войны, вернули ситуацию 1904–1905 гг. От полного поражения мог спасти только мобилизирующий рывок в экономике. Но в отличие от Франции и Германии, где он с успехом осуществился, в России индустриализация обернулась против правительства. Военные поражения в 1915 г., вызванные по большей части нехваткой средств для поддержания боеспособности армии, привели мелких и средних предпринимателей практически к восстанию против высшего царского руководства. Признав политику царского руководства, заседавшего преимущественно в Санкт-Петербурге (получившем в московских газетах прозвище Вильхемград), как упадническую с моральной, профессиональной и национально-патриотической точки зрения, они решают взять процесс индустриализации под свой контроль.
Победа большевиков, в сущности, мало обязана перенятой ими с Запада революционно-интернационалистической идеологии. У истоков создания СССР стояли крестьянский бунт и восстание управленческой и промышленной элиты против режима, который они считали неспособным к осуществлению необходимой модернизации государства. Данная ситуация предвосхищает то, что произошло позже в Китае в 1937–1949 гг.
Когда Ленин навязал нэп нерешительной большевистской партии, он, безусловно, хорошо понимал ситуацию. Он понял, что идея мировой революции уже канула в Лету, и именно он теперь осуществляет тот самый поворот в сторону политики консолидированного экономического и социального развития России. Новая экономическая политика отвечала потребностям крестьянства и промышленников, объединенных отныне негласной идеей государственной модернизации.
Нэп – период, который Н. Нарочницкая опускает в своем, впрочем, и без того исчерпывающем изложении российской истории, – намного лучше, нежели 30-е гг., показывает возвращение понятия «нация» в общее русло революции. Что же касается Сталина, то он без колебаний приносил и то и другое на алтарь своей собственной власти, будь то процесс по делу «Промышленной партии» или же чистки 1935–1937 гг. Экономический рост СССР в годы первых двух пятилеток был значительным, но осуществлялся ценой неслыханного расточительства и, в действительности, осуществлялся намного медленнее, чем в годы нэпа. Об этом говорит и динамика роста производительности труда: со 100 в 1913 г. она упала до показателя 86 в 1923 г. и поднялась до отметки 184 в 1928 г.
Нэп – это период, который, вопреки заявлениям сталинского режима, вовсе не был отмечен обеднением большей массы крестьян за счет кулаков, но, напротив, характеризовался ростом средних крестьянских хозяйств, шедшим параллельно с общим производственным ростом. Средние крестьянские хозяйства к 1913 г. представляли чуть меньше 40 %, в то время как к 1926–1927 гг. они составили 63 %, из которых 67,7 % приходилось на западные районы РСФСР. Следующим показателем могло бы служить соотношение численности наемных рабочих к общей численности сельских тружеников. Так, если в 1913 г. насчитывалось 3 миллиона наемных рабочих против 55,5 миллиона частных крестьянских хозяйств, то в 1926–1927 гг. их число сократилось до 1,515 против 61,2 миллиона частных крестьянских хозяйств. Здесь мы видим подтверждение тому, что уже говорилось в свое время в других исследованиях, то есть устойчивые позиции среднего крестьянства в социальном контексте новой экономической политики, а главное – снижение, а вовсе не увеличение социального расслоения на селе после 1917 г.
Однако, если мы и можем оспорить ту или иную деталь из изложенного Н. Нарочницкой, то в целом суть ее аргументации касательно причин революции весьма убедительна. Большевики смогли захватить и удержать власть как раз потому, что сумели объединить в своих лозунгах и речах и чаяния самого народа, в особенности крестьянства, и национальную идею. Это в равной степени неприятно осознавать как тем, кто считает себя наследниками большевизма, так и их противникам, включая самых радикально настроенных. Идея объединения социального проекта с идеей национального возрождения воплотилась задолго до 1941 года, задолго до того, как Сталин установил свою власть, а методы его управления страной, в частности репрессии и чистки, уничтожившие примкнувшую к советскому режиму российскую промышленную элиту, таким образом, способствовали скорее ослаблению России, нежели укреплению ее позиций.Воспоминания о победе и споры о войне
И, наконец, книга Наталии Нарочницкой поднимает ключевой вопрос, выходящий за пределы диалога между Россией и Западной Европой. Это вопрос об исторических спекуляциях, называемых «войной памяти», – явлении, которое сопряжено с процессом инструментализации и политизации памяти о Второй мировой войне.
На самом деле, сегодня данное явление представляет собой глобальную патологию, которую можно обнаружить, в общем-то, где угодно, начиная с вопросов, касающихся рабства, и до войн за независимость бывших колоний в XX веке. Эти «войны памяти» таят большую опасность для историка, от которого то и дело требуют принять ту или иную сторону, в то время как его работа заключается в установлении фактов и трактовке событий на основе документов и всех имеющихся в его распоряжении источников.
И хотя такие «исторические» баталии явление не новое, так как еще в Древней Греции велись ожесточенные споры вокруг противоречивших друг другу мифов о происхождении того или иного города, но ту форму, в которой это явление существует сегодня, оно приобрело исключительно в период холодной войны. Таким образом, становится очевидно, почему конфликт 1939–1945 гг. оказался в эпицентре этих споров.
Именно на этой основе, ставшей отправной точкой для данной книги, о чем свидетельствует и ее заглавие, Н. Нарочницкая выстраивает всю свою аргументацию, по большей части справедливую и обоснованную, которой необходимо уделить самое пристальное внимание.
Действительно, нам трудно критиковать германо-советский пакт 1939 года в свете политики, которую вели европейские демократии, оставив безнаказанными действия Италии в Абиссинии, допустив итало-германское вмешательство в ход гражданской войны в Испании и, наконец, отдав Чехословакию на растерзание нацистам и их тогдашним союзникам – польским генералам.
Н. Нарочницкая могла бы добавить к этому и определенную двойственность политики США, которые, выступая против японской агрессии в Китае, лишь в 1941 г. перейдут к действенным мерам против японского милитаризма, в то время как китайское правительство получало помощь СССР уже с 1937 г. Добавим также, что если пакт позволил СССР выиграть важную отсрочку, оттянув начало войны, то победа Г. Жукова летом 1939 года на Халхин-Голе, безусловно, способствовала спасению СССР от попыток японских генералов напасть на Сибирь.
Ненаучное видение и подход к итогам Второй мировой войны представляет для будущего Европы огромную проблему. Пока мы будем допускать практику политической инструментализации памяти о той войне, настоящий политический и культурный диалог построить будет очень трудно.
Празднование 60-й годовщины высадки союзников в Нормандии является хорошим тому подтверждением. Французское правительство можно понять: будучи не в лучших отношениях с администрацией Дж. В. Буша, осложнившихся вследствие смелой политики президента Ширака в отношении Ирака, было решено придать этому празднованию особую пышность. Что само по себе совсем неплохо.
Но, не желая ни в коей мере оскорбить память американских солдат, погибших 6 июня 1944 г., не стоит забывать все же, и это показывает вся история войны, что жертв могло бы быть несоизмеримо больше, если бы не две битвы – Сталинградская и Курская, предшествовавшие высадке союзников, в которых нацистская военная машина потерпела сокрушительное поражение. Курская битва в июле 1943 г., пожалуй, даже превзошла по значимости Сталинградскую, сразу ставшую советским символом сопротивления нацизму. Именно там, по мнению самих немецких генералов, «произошел закат немецкой армии». Если промышленность Рейха позволяла заменить сотни сгоревших танков, то заменить опытные боевые экипажи, с 1939 года не знавшие себе равных на полях сражений в Европе, не было никакой возможности. Сотни танкистов, погибших в той битве, уже не могли участвовать в событиях июня 1944 г.
Поэтому можно сказать, что союзникам повезло, принимая во внимание, какой урон им смог нанести всего один выживший участник Курской битвы из элитного танкового подразделения немецкой армии: 13 июня 1944 г. «Тигр», находившийся под командованием оберштурмфюрера СС Виттмана, в одиночку блокировал наступление 7-й британской танковой дивизии, уничтожив до этого колонну, следовавшую из Виллье-Бокаж.
Стратегический успех высадки союзников в Нормандии был закреплен под Авараншем (операция «Кобра») в конце июля 1944 г. в результате прорыва американской армии, которая затем, перейдя Сену 25 августа того же года, предприняла операцию по освобождению Парижа и к началу сентября 1944 г. подошла к бельгийскому Мону. Однако такой стратегический успех Третьей армии Паттона объясняется не в последнюю очередь тем, что немецких частей на территории Франции практически уже не осталось. Причиной тому стало обескровливание армии «Центр» в результате наступления советских войск в Белоруссии (операция «Багратион») 23 июня 1944 г. Для сравнения – в одной только этой операции, выведшей советские войска к берегам Вислы, Красной Армии пришлось противостоять противнику, по численности несоизмеримо превосходившему те соединения, с которыми довелось сражаться союзным войскам под командованием Брэдли и Паттона: более 800 000 человек, более 100 танков, около 9000 артиллерийских орудий.
Но победы одних никак не умоляют побед других. Никто не собирается оспаривать тот факт, что Паттону в августе 1944 г. удалось осуществить одну из самых блестящих операций американской армии за всю историю Второй мировой войны. Но никто не должен забывать и о том, что главные силы нацистов были сосредоточены не в Нормандии, а в России и что наступление под командованием Баграмяна, Черняховского, Рокоссовского и Захарова значило ничуть не меньше для Европы, если не больше, чем блестящий танковый удар Паттона.
В современной историографии, за исключением, конечно, работ специалистов, сокрытие фактов, касающихся вклада Советского Союза в победу над фашизмом, представляет собой проблему, корни которой лежат намного глубже тех фактических ошибок, которые встречаются еще сегодня в школьных учебниках.
Тот факт, что в памяти жителей Западной Европы именно вклад союзников в победу над фашизмом занимает центральное место, не является сам по себе чем-то удивительным и противоестественным. Ведь войска, которые выдворили оккупантов с их территорий, состояли, как правило, из американцев, англичан, канадцев и иногда французов. Но тот факт, что история с подачи некоторых политиков ограничивается в глазах европейцев лишь памятью об отдельных событиях, не может не вселять тревогу за будущее Европы.
Книга Наталии Нарочницкой, в свойственной ей эмоциональной манере, и пусть, с некоторыми преувеличениями, тоже выражает эту тревогу. Поводом для нее служат вполне реальные факты, которые мы должны, безусловно, учитывать для того, чтобы начать полноценный диалог.
И если в истории мы хотим быть и оставаться субъектами, а не объектами более или менее изощренных манипуляций, необходимо со всей серьезностью отнестись к чтению текста, который она предложила нашему вниманию.Жак Сапир, экономист, профессор Высшей школы социальных наук, Париж (EHESS)
Перевод – О.С. Вейнгарт
Назад: С позиции защитника идеи Родины
На главную: Предисловие