Часть первая
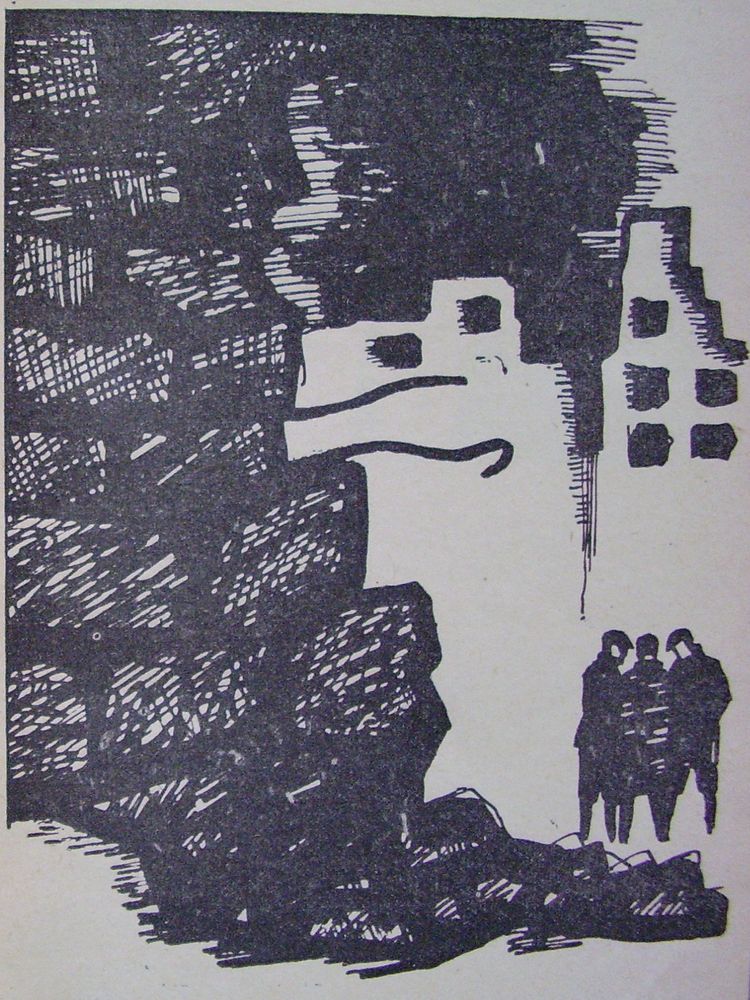

Кто он, этот таинственный Жан? Его знали все подпольщики Минска, но никто из них не мог назвать ни подлинного имени его, ни фамилии, ни специальности, ни места рождения. Для одних он был просто Жан, для других — Жан Назаров, для третьих — Александр Назаров или Сашка, для четвертых — Александр Бабушкин.
Одни утверждали, что он из-под Москвы, другие — что из Казани, третьи — что из Калининской области, а кое-кто уверял, что Жан — постоянный житель Ленинграда.
Человек-загадка.
Как отыскать его след?
Беседуем с бывшими подпольщиками. Изучаем множество разных документов. Посылаем запросы в соответствующие инстанции. Десятки людей ищут человека, который, по нашим предположениям, должен был жить в том или ином месте семнадцать — двадцать лет назад. Человек ведь не иголка...
А он не оставил следов, будто призрак.
Временами казалось, что напрасны наши поиски. Разве можно найти того, кто не оставил ни своего настоящего имени, ни сведений о месте довоенной работы? Не лучше ли изучать дела других подпольщиков Минска? Тем более, что и героев здесь было много, и дел сделано столько, что многие тома повестей, очерков не расскажут обо всем.
Но как же отступиться от того, что считаешь своим долгом, не рассказать о человеке, который показал чудеса героизма и погиб как герой?
Поиски продолжались.
И вот среди других документов найдена докладная записка, подписанная младшим лейтенантом Кабушкиным. Рядом с его собственноручной подписью в скобках стояло коротенькое слово: «Жан».
Это была, пожалуй, самая важная находка при изучении минского подполья, та чудесная ниточка, при помощи которой начал разматываться таинственный клубок. Теперь уже искали младшего лейтенанта Кабушкина. И нашли в списках одной из партизанских бригад, действовавшей в Логойском районе и державшей связь с минским подпольем. Иван Константинович Кабушкин числился помощником начальника штаба по разведке. В списках значилось, что он пропал без вести.
Теперь, когда собраны многие документы, когда разысканы десятки бывших подпольщиков, которые остались в живых, расшифрованы записки Жана из застенков СД, когда развеяна тень, долгие годы лежавшая на героической деятельности минского подполья, перед нами встала величественная картина самоотверженной борьбы коммунистов и беспартийных большевиков Минска против фашистского нашествия.
Стены наполовину разрушенных домов, заборы, ограды были облеплены объявлениями на белорусском и немецком языках. Высокий, статный хлопец в новеньких серых, старательно отутюженных брюках и голубой безрукавке медленно шагал по Червенскому тракту и время от времени останавливался возле объявлений:
«За укрытие беглых военнопленных — смерть».
«За укрытие оружия, боеприпасов, радиоприемников — смерть».
«За оскорбление немецкой армии — смерть».
Было трудно понять, как относится парень к этим объявлениям: одобряет, осуждает или безразличен к ним. Правда, голубые, довольно глубоко запрятанные глаза его, казалось, чуть темнели, когда останавливались на слове «смерть».
Прочитав все, парень пошел дальше. Пустынные улицы Минска страдальчески горбились перед ним. Кое-где от руин поднимался еще дымок, пахло горелым. Жаркое августовское солнце струило над городом трепетное марево.
Парень шел спокойно, уверенно, даже тихонько насвистывая мотив какой-то песенки. На скрещении улиц неподалеку от гостиницы «Беларусь» его остановил немецкий патруль:
— Мандат!
Два солдата и ефрейтор держали пальцы на курках автоматов. Высокий конопатый ефрейтор взял паспорт, посмотрел на фото, а потом на парня.
— Где работайт?
— Парикмахер, — спокойно ответил парень, ловко проведя по щеке ладонью.
Эта точная имитация развеселила немцев. Они громко захохотали. От парня пахло хорошим одеколоном. Сомнений не могло быть: он действительно парикмахер.
— Гут, гут, шпацир!
Парень напоследок еще подмигнул патрульным и, приветственно помахав рукой, пошел дальше. По всему видно было, что документы у него в порядке. Об этом он не беспокоился. Совсем иные мысли тревожили его.
Когда приблизился к Советской улице, услышал приглушенный говор, шарканье многих ног. Свернул в руины. Отыскал щель в заваленном обломками окне и глянул на улицу. По ней — видно, со станции — вели пленных красноармейцев. Серые, будто посыпанные пеплом, заросшие лица угрюмо склонены, глаза запали.
Глядя на бесконечную колонну пленных, парень чувствовал, какую душевную тяжесть несет каждый в себе, какую нестерпимую физическую боль приходится каждому переживать.
Вдруг один из пленных, раненный в голову, повалился на мостовую, под ноги своим товарищам по несчастью. Те, что шли позади, споткнулись о него и тоже попадали. Конвоир дал по ним длинную очередь из автомата. От неожиданности колонна шарахнулась в стороны. Тогда открыли огонь другие конвоиры.
Колонна растянулась до самой Комаровки, и стрельба слышалась по всему городу.
Пленные бежали кто куда, но всюду их догоняли фашистские пули.
Парень, притаясь в руинах, прижался к высокой толстой кирпичной стене. Сюда, наверно, никто не заглянет. Но не о себе он думал теперь. Нет, его сердце было по ту сторону стены, где текла кровь его братьев, его товарищей.
Совсем недавно, так же как сейчас их, вели его по этой улице незнакомого города. И он шагал, обшарпанный, обросший, голодный и униженный. Какая ненависть родилась тогда у него в душе!
Никогда в жизни он не переживал с такой силой этого чувства. Всегда веселый, беззаботный, он мог иногда обидеться, разозлиться на кого-нибудь, даже очень разозлиться, но спустя короткое время забывал и о своих обидах и о своей злости. Как всякий физически здоровый человек, которого природа наделила красотой и большой силой, он не имел оснований быть чем-нибудь недовольным, а тем более ненавидеть кого-нибудь. Жизнь улыбалась ему даже тогда, когда порой своевольно подставляла ножку.
С детских лет приученный к преодолению трудностей, к физическому труду, он не обращал внимания на мелкие житейские неполадки.
«Тяжело сегодня? — рассуждал он обычно. — Ну так что же, переживем, а завтра легче будет».
Потому и любили его товарищи и на работе и в армии.
Совсем недавно, несколько недель назад, началась война. И за такое короткое время он хорошо изведал науку ненависти.
Их часть разбили еще за Барановичами, неподалеку от его родных мест. Мать в то время как раз гостила у брата, жившего под Барановичами. Давно она не виделась с ним: судьба бросала мать по белому свету, и только в старости довелось попасть в родную деревню Грабовец.
Попала, да в лихое время.
Неожиданно грянула война, и сын даже не простился со своей доброй, нежной старенькой матерью. В первый же час боя на самой границе младший лейтенант Иван Кабушкин урвал минуту, чтобы забежать домой и сказать молодой жене:
— Бросай все, дорогая, да быстрей выбирайся на восток. Сейчас отходят последние автомашины с семьями... Береги себя, Томочка...
Она обняла его за шею:
— Не оставлю я тебя, Жан, не оставлю... Медсестрой останусь, Жан...
Всегда она так ласково звала его — Жан. И он привык к этому новому имени.
— Нельзя, родная, никак нельзя. И раздумывать некогда. Добирайся до Казани, там устраивайся на старой нашей квартире или где-нибудь поблизости. Война окончится, там буду искать тебя... А теперь беги быстренько, беги...
Он схватил ее своими сильными руками спортсмена и, поцеловав в глаза, губы, щеки, шею, отнес к машине.
Густой столб пыли, поднявшийся за кузовом, скрыл ее...
Иван бросился к своим позициям. Бой заканчивался. По приказу командира часть отходила.
Зацепившись за выгодный рубеж, снова заняли оборону. Два дня слились тогда в один нестерпимый, душный, кровавый гул. Кто остался жив, кто погиб — Иван не знал. Все было окутано багровым туманом. И солнце было ярко-красное, и небо, и лес. Оглушенный взрывом снаряда, Иван ожесточенно стрелял в метавшиеся перед ним фигурки.
Из его подчиненных уже никого поблизости не было. Последний уцелевший пулемет с патронной коробкой он оттянул за небольшой пригорок, пристроился там и снова стрелял, с тревогой наблюдая за тем, как кончаются патроны. Ждать боеприпасов было неоткуда — кругом враги.
И не слыхал, как сзади на него навалилось несколько гитлеровцев. Рывком стряхнул их с себя, но врагов, видимо, прибавилось, они снова навалились на лейтенанта и прижали к земле. Один из фашистов ударил его прикладом автомата по голове.
Потом его повели. Вот так вели, как этих, которые полегли только что на улице. Под палящим солнцем, в изорванном обмундировании, покрытого соленой от пота пылью, голодного. Гнали не на запад, а на восток, к Минску. Фашисты были уверены, что Минск займут с ходу, и заранее наметили там лагеря для военнопленных.
Пригнали в Минск через день-два после того, как здесь обосновались штабы. Иван Кабушкин был в Минске впервые. Он не знал ни названий улиц, ни плана города. Запомнилось только, что вели как раз по той улице, на которой фашисты теперь расстреляли сотни пленных.
Город напоминал разворошенный, подожженный муравейник. Бесконечные бомбежки превратили его улицы и кварталы в груды руин. Люди метались, не знали, как и где избавиться от беды, которая свалилась так нежданно-негаданно. Одни выбирались на восток, другие нескончаемым потоком заполняли улицы, ища здесь хотя бы временное пристанище.
Горе, тяжелое, нестерпимое горе обжигало сердце. Иван Кабушкин впервые по-настоящему узнал тогда, что такое ненависть.
А потом лагерь возле Парка челюскинцев, за колючей проволокой, где с пленными обращались хуже, чем со скотиной. Правда, в первые дни охмелевшие от победы фашисты, пытаясь подкупить местное население, отпускали домой всеннопленных-минчан. Нужно было только, чтобы какая-нибудь женщина пришла в лагерь и признала пленного своим мужем, братом или отцом.
Иван познакомился со многими пленными. Как бы тяжело ни было, он не мог оставаться без друзей, замкнуться в себе. Рядом с общей бедой его собственная казалась маленькой, мизерной.
Нашлись бойцы родом из Минска. Одного из них, которого тоже звали Иваном, отыскала жена. Почерневший, запыленный, с пересохшими губами, солдат порывисто обнимал молодую женщину, и скупые мужские слезы падали на ее щеки, на чистенькую, беленькую кофточку. Иван Кабушкин посматривал на них сбоку, и вдруг у него родилась смелая мысль.
— Добрый день! — приветливо поздоровался он с молодой женщиной после первых минут ее свидания с мужем. — Поздравляю вас со встречей.
Женщина подозрительно посмотрела на него: есть с чем поздравлять! Разве так мечтали они встретиться? Хоть и то верно — большое счастье, что муж живой и почти здоров. Очень исхудалый, правда, но это ничего, лишь бы забрать его отсюда. Все это Иван Кабушкин прочитал на лице молодой женщины.
— Это Жан, — сказал солдат. — Так все его зовут.
Они пожали друг другу руки: женщина — робко, Иван, или Жан, как он назвал себя, — решительно, крепко, так, что она чуть не вскрикнула.
— У меня к вам просьба, — тихо проговорил он. — Сделайте, чтобы и меня вывели отсюда, когда за Иваном придете... И за меня попросите начальство...
И отошел в сторону, не ожидая ответа. Солдат Иван попросил жену:
— Сделай, Марыся, парень он товарищеский, надежный...
Когда она ушла, Кабушкин отвел Ивана в сторону и спросил:
— Найдет она мне родственников в Минске?
— Найдет! Она у меня такая: если нужно, так из-под земли найдет. Дай бог каждому...
На другой день Мария пришла в лагерь с двумя девушками. Одна из них, постарше, с черными бровями и черной длинной косой, внимательно приглядывалась к пленным и, когда Иван Кабушкин стал рядом со своим новым другом, взяв его за локоть, с криком-причитаниями бросилась к Кабушкину:
— А мой же ты дорогой, а мой же ты родненький!.. — и повисла на шее у Ивана, спрятав лицо на его широкой груди. — Наконец-то я встретила тебя... Если бы не добрые люди, не нашла бы...
Услыхав этот крик, стали оглядываться и пленные и немцы. Обняв девушку и целуя ее, Иван сказал ей на ухо:
— Немного меньше пыла... Слишком уж много шума... Вон все смотрят...
— Это хорошо... Пусть смотрят, — тихо ответила она и снова громко заговорила: — Я уж и не надеялась тебя увидеть. Какое ж это счастье, что мы встретились!..
В тот же день его выпустили из лагеря. Об этом позаботилась новоявленная жена. Она привела его к себе на квартиру, в деревню Столовую, на самой окраине города. Через знакомых отыскали ему хорошую гражданскую одежду: два костюма — светлый и темный, туфли, сорочки.
Нелегко было подобрать одежду для такого богатыря. Но односельчане и хорошие знакомые из Минска помогли. Никто не спрашивал, для кого эта одежда. Если просят, значит, нужно.
В тот же день Жан (так называл он сам себя и так звали его другие) совсем переменился: старательно побрился, помылся, наодеколонился, чисто оделся. Теперь трудно было в этом красивом парне узнать того младшего лейтенанта, который с окровавленной головой понуро шагал в колонне пленных красноармейцев.
Кажется, и характер его теперь изменился. Снова улыбкой светились голубые глаза.
Веселый характер помогал ему быстро знакомиться и близко сходиться с людьми, завоевывать их симпатии. Осторожно, но неуклонно расширял он круг новых знакомых.
Вскоре в кармане у Ивана Кабушкина уже лежали документы на имя Александра Бабушкина.

Теперь он целыми днями ходил по городу, изучая обстановку, присматриваясь к людям, отыскивая нужные связи. Одна мечта владела им — перебраться за линию фронта. Но фронт с каждым днем отодвигался все дальше и дальше, а товарищей себе для задуманного дела Иван никак не мог найти: тот ранен, этот здоровьем слаб, а тот не доверяет незнакомому человеку.
Правда, последняя помеха не представлялась ему особенно серьезной. Попутчиков найти можно было: в городе осталось много народу, в том числе бойцов и командиров Красной Армии, которые попали в окружение и переоделись в гражданскую одежду. Среди них сотни, тысячи таких, которые страстно желали перейти фронт. Только попробуй догони его. Выйдешь на дорогу, попадешь на фашистский патруль — и могила.
В город с востока все еще возвращались неудачники беженцы-минчане.
Однако нужно было собирать, сплачивать надежных людей. Не сидеть же сложа руки, когда враг лютует в нашем доме.
Жан отправился на свидание с лейтенантом-летчиком, жившим недалеко от Дома правительства.
Познакомился он с летчиком с помощью хозяек своей квартиры. Те ходили к родственникам в город и, возвратясь, сказали ему по секрету, что видели летчика Леню, сбитого «мессершмиттами» вблизи Минска. Переодевшись в одной деревне в гражданскую одежду, Леня с потоком беженцев пришел в Минск и устроился на квартире у хороших людей. Он подыскивает надежных хлопцев, с которыми можно было бы перейти линию фронта.
Хозяйка рассказала об этом Ивану, потом познакомила его с Леней на улице. Тогда и договорились они собраться и основательно обсудить план дальнейших действий.
И вот — этот зверский расстрел военнопленных. Иван стоял, тесно прижавшись к стене в углу разрушенного дома, и напрягал все свои силы, чтобы сдержать нервную дрожь. Он не раз видел смерть в бою. Еще зимой 1939 года был ранен на финском фронте. В него стреляли, и он стрелял. Бил врага беспощадно, не думая, что и самого могут убить.
Здесь же шли обессиленные, раненые люди, шли с одной мыслью: скорей где-нибудь упасть и забыться в голодном сне. За что же их расстреливают? Зачем нужно превращать улицу в бойню?
Нет, человек так не сделал бы. Фашисты — звери, безжалостные, жаждущие крови звери. Таких ничем не проймешь. На их действия может быть только один ответ — пуля.
Ненависть снова трясла его лихорадкой. До боли сжав кулаки, он прижимался то одной, то другой щекой к холодным кирпичам изувеченной стены.
А там, на улице, слышались стоны раненых и одиночные выстрелы — палачи добивали тех, кто еще дышал и стонал. И вот он был совсем рядом со своими родными братьями и ничем не мог им помочь.
Долго стоял так Иван, окаменевший, наэлектризованный могучим зарядом ненависти.
Пробиваться ли за линию фронта? Разве здесь не на каждом шагу враги, которых нужно уничтожать, как бешеных собак? Теперь нет у него другой цели.
Из руин вышел не сразу на улицу, а пробрался между разрушенными домами всего квартала, подальше от того места, где еще недавно корчились в предсмертных судорогах пленные красноармейцы. Повернул направо и по безлюдной улице пошел в обход этого ужасного побоища.
Леню нашел на квартире. Тот с нетерпением ждал его.
— А я думал, Жан, с тобой что-нибудь случилось. Такая стрельба слышалась в той стороне...
На высокий лоб Ивана легли глубокие борозды. Погасла голубизна глаз. Они вдруг стали необычно серыми, еще глубже спрятались в тень глазниц.
— Запомни, друг мой, что со мной никогда, до самой смерти, ничего не случится. Но только что я видел такое, что и рассказать не могу...
— Что там за грохот был?
— Лучше бы не видеть... На моих глазах столько людей убито! Слабых, безоружных, раненых. И добивали, гады, с холодным равнодушием мясников. Нет, такое не забывается и не прощается. — Говорил отрывисто, грудным голосом, будто произносил слова клятвы. — Если ты, Леня, действительно тот, за кого выдаешь себя, незачем рваться на восток. Догонишь ли ты фронт или нет — неизвестно, а если догонишь, то как пробьешься через него? А здесь враги, лютые враги на каждом шагу. Давай вместе будем уничтожать их!
Летчик задумался. Иван ждал ответа.
— Так-то оно так, но это же анархия. Я привык к дисциплине, к армейскому порядку... Да и что мы сделаем вдвоем?
— При чем тут анархия? Бить фашистов нужно! Ведь к этому зовет нас партия... Кстати, я познакомился уже со многими минчанами, изучаю их настроение.
На всякий случай Иван вышел из каморки, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. В хозяйской комнате никого не 6ыло. По просьбе Лени хозяйка, когда пришел Иван, вышла и теперь копалась в палисаднике. Возвратясь в каморку, Иван достал из потайного кармана небольшой измятый листок бумаги.
— Вот листовка... Почитай и все поймешь.
Леня прочитал раз, другой, третий. Бережно свернул листочек и отдал Ивану.
— Где ты нашел ее?
— Да вот нашел... Самолеты ночью сбросили.
— Кстати, почему у тебя такое имя — Жан? Ты француз, что ли?
— Давай, дружок, договоримся не интересоваться тем, что не относится к делу, — ответил Иван. — Мы с тобой теперь так живем, что чем меньше будем знать о прошлом каждого из нас, тем лучше. В случае провала, если и захочешь что-нибудь сказать врагу, — не скажешь. Ты понял меня? И не обижайся, пожалуйста, что я ничего не скажу тебе о своем прошлом. И тебя не буду спрашивать. Вижу, парень ты неплохой, воевать хочешь, и этого достаточно. Договорились?
— Согласен. Извини за нетактичный вопрос. Но если нас задержат вместе, о тебе что-нибудь спросят, что я должен сказать?
— Каждый раз я тебе буду сообщать, кто я. Сегодня я — парикмахер. Стригу и брею... Разве не похож на парикмахера?
И впервые на его лице Леня увидел веселую улыбку.
— Очень похож, — Леня даже удивился. — Я, по правде говоря, даже подумал об этом. Кстати, и пахнешь ты, как парикмахер.
— Назвался груздем — полезай в кузов... Как у тебя с документами?
— Пока никак. Будто кукушка в чужом гнезде.
— Это никуда не годится. Завтра же нужно сделать тебе хорошие документы. Кем ты хочешь назваться?
— Мне все равно, лишь бы фашисты не прицепились.
— Нужно сделать твое фото для документов. У меня есть знакомый парень, умеет фотографировать. Сейчас пойдешь к нему и скажешь: «Одолжи Жану корзиночку, пожалуйста». Он ответит: «Это можно» — и поведет тебя в хлевок. Там и сделает все, что нужно. Если же какая помеха будет, то он скажет: «К сожалению, наша корзиночка сломалась». В таком случае давай обратный ход. Запомни адрес...
На прощанье Иван сказал Лёне:
— Завтра в полдень я принесу тебе документы. Тогда и договоримся о дальнейшем. А пока, всего хорошего и не вылазь без особой надобности, не мозоль глаза фашистам. Нас ожидают серьезные дела. Нужно хорошо подготовиться к ним.
Лето давно уже минуло. Желтыми и серыми сделались загородные просторы. Поле лежало грустное, сиротливое. Пригорки белели песчаными лысинами.
Иван пробирался ярами к ближайшему лесу. Одет он был в густо простроченный ватник, такие же брюки, неуклюжие сапоги, белесую чуприну прижимала здорово поношенная суконная шапка. За широкой сгорбленной спиной болтался засаленный рюкзак.
В нем — килограмма два соли, кусок самодельного мыла и еще кое-какие вещи.
Во внутреннем кармане ватника лежали завернутые в старенький носовой платочек документы на имя Александра Назарова, крестьянина из Логойского района: сделанный по всем правилам немецкий «аусвайс» и трудовая книжка колхозника. Одним словом, крестьянин отнес в город продукты и выменял их на промышленные товары. Обычное дело.
Даже хорошие знакомые, пожалуй, не узнали бы теперь Ивана Кабушкина. Это был совсем другой человек: голова втянута в плечи, руки болтаются как-то спереди, шаги тяжелые, но быстрые. И шел он напрямик, выгадывая путь, как делают это заботливые крестьяне.
Только что рассвело. По небу плыли низкие облака. Земля дышала осенней терпкой прелью. Пожелтевшая трава, примятая тяжелым сапогом, влипала в сырую землю, не выпрямлялась.
На пригорке темно-зеленой стеной стоял лес. Стройные, высокие сосны, молодые кудрявые елки. Оголенные озорником ветром березы жалостно стонали в его неласковых объятиях.
Лес манил к себе, обещая приют, возможность укрыться, безопасность.
Став за молодую елку, Кабушкин осмотрелся. Кругом безлюдье. Значит, никто не следит. Можно идти смело.
Набрякшие сучья глухо хрустели под ногами. В стороне, испуганная шагами человека, взлетела стайка крикливых соек. Они быстро скрылись в глубине леса. Вслед за Кабушкиным, будто качаясь на волнах, летела и стрекотала сорока. Противная это птица! Найдя большую шишку, Иван запустил ее в стрекотуху, и та метнулась за густые елки.
Не впервые уже Кабушкин был в этом лесу. Несколько раз с Леней Виноградовым, Иваном Ломакой и другими друзьями приходил он сюда на разведку. Здесь прятали найденное на поле оружие, боеприпасы, медикаменты, создали свой партизанский «тыл». Отсюда решили ходить на боевые операции.
Удивительно складывалась судьба Ивана Кабушкина. Никогда не думал он, что ему придется быть артистом, да не на сцене, а в жизни. И не каким-нибудь артистом. Здесь игра необычная: чуть сфальшивил — сразу засыплешься. Если кто вспомнит, так не Ивана Кабушкина, а Жана или Сашку Бабушкина, а может быть, Александра Назарова — это смотря по тому, кто вспомнит. Никому, даже самым близким друзьям своим, не говорил он настоящего имени и фамилии.
Зачем? Где-то совсем недалеко, около Баранович живет его мать. Если бы кто-нибудь выдал гестаповцам Ивана Кабушкина, то они нашли бы и старуху. Ведь фамилия у них одна.
Нет, лучше для друзей остаться Жаном. Да и помирать он не собирается, пока не уничтожит последнего фашиста на родной Беларуси. Зачем думать о смерти?
Ветер с тоскливым шумом раскачивал вершины деревьев, а внизу было тихо. От земли шел густой грибной запах.
Залопотало вдруг что-то, захлопало над головой. Это пронеслась стайка рябчиков. Иван с любопытством проводил их взглядом. Он не был охотником, и красавцы рябчики вызывали в его душе только сочувствие и восхищение.
Наконец в лесном сумраке одна за другой показались фигуры людей. Их было четверо. Видно, встретились где-то на опушке. Они не разговаривали. Даже в лесу нужно было сохранять тишину — враг мог появиться везде.
Когда сошлись вместе, Иван сказал:
— Сейчас пойдем к тракту. Прошлый раз я подыскал удобное местечко: высокий обрыв над дорогой, на самом повороте. Хорошо видно во все стороны, а самим можно замаскироваться в кустах. Деревень поблизости нет. Предупреждаю еще раз: без моей команды не стрелять. Начинаю я. Удар должен быть быстрым и решительным. Если появится больше двух машин, не трогать. Будем бить одиночные, преимущественно легковые. Каждому иметь по гранате. Все понятно?
— Все, — тихо подтвердил Леня Виноградов.
— Тогда пошли. Идти друг за другом через десять шагов, оставлять как можно меньше следов. Подойдя к обрыву, я подниму руку, и тогда последнему — посыпать следы махоркой. Будем идти обратно — также посыпать следы махоркой. Пошли!
Место для нападения было выбрано действительно отличное. Обрыв почти козырьком нависал над дорогой. Густой кустарник давал возможность хорошо спрятаться всей группе.
Залегли, прикрывшись сосновыми ветками. Молчали. Серые тучи цеплялись за вершины деревьев. Немного моросило. Через толстые ватники до самого нутра пробирала зябкая сырость.
Иван тихо наломал можжевельника и густо подстелил под бок. Глядя на него, так сделали и остальные. Стало теплей, меньше тянуло сыростью от набрякшей земли. Пахло можжевельником и смолой.
А дорога была пустынна. Только однажды протарахтела по ней подвода — какой-то крестьянин вез картошку. Но и он исчез за далеким пригорком.
Тот, что лежал на правом фланге, тихо вскрикнул:
— Идет! Легковая. «Опель»... Накроем, Жан?
— Подготовиться! — скомандовал Кабушкин.
Он вытащил из кармана гранату-лимонку, поставил ее на боевой взвод и весь напрягся. Машина приближалась. Издали нельзя было рассмотреть, кто в ней сидит, но, конечно, рядовой немец не будет кататься в такое время на легковой машине далеко от фронта.
Не доезжая до поворота, шофер затормозил. За высоким пригорком, на котором лежали хлопцы, ему не видно было, что делается впереди. В этот момент Иван изо всей силы метнул гранату под машину. Послышался приглушенный взрыв. Машину подбросило и наклонило набок. Хлопцы дали по ней несколько очередей из автоматов и затем по команде Кабушкина бросились вниз.
Шофер и офицер были прошиты пулями и осколками гранаты. Быстро забрав документы, оружие, захватив небольшой чемодан с офицерским обмундированием, лежавший на заднем сиденье, подожгли машину и нырнули в лес.
— Не забудь посыпать следы, — напомнил Иван. — Нас обязательно будут искать с собаками.
Всем вместе, тем более теперь, идти в город нельзя было. Уже вечерело — дни в октябре короткие. А до Минска не близко.
— Вот что, хлопцы, — сказал Кабушкин на прощанье, когда оружие было снова спрятано. — Сейчас разойдемся, пересидим дня два-три у своих знакомых колхозников, пока стихнет шум, который поднимут фашисты. Потом нужно будет возвращаться в Минск. Оттуда пойдем в другой район. Нельзя топтаться на одном месте. Документы у всех в порядке? Фрицы и полицаи не прицепятся?
— Да, видно, все в норме. Работа чистая, — за всех ответил Леня.
— Ну, так всего, друзья, поработали вы сегодня хорошо. В Минске я скажу, как действовать дальше.
Пожав всем руки, он исчез, будто растаял в лесной чащобе.
По городу ползли слухи: кто-то на дорогах Минск — Логойск и Минск — Столбцы постреливает гитлеровцев. Слово «партизан» стало самым популярным у местных жителей, его часто повторяли и оккупанты.
А вскоре и в самом Минске стало неспокойно фашистам. Сначала они держались нахально: разгуливали ночами по улицам, пьяные бродили среди руин, даже не допуская мысли, что в городе, в глубоком тылу, кто-то осмелится покушаться на их жизнь. Но вот все чаще и чаще офицеры и солдаты начали как-то бесследно исчезать. Пойдет фашистский вояка вечером куда-нибудь пировать и не вернется.
Только трупный запах в руинах давал знать порой о бесславной гибели еще одного гитлеровца. При нем обычно не находили оружия, документов, а иногда и обмундирования.
После каждого такого убийства фашисты устраивали погромы в ближайших к месту происшествия кварталах, безжалостно уничтожали сотни «заложников». А это в свою очередь вызывало лютую ненависть минчан к оккупантам.
На стенах домов, на заборах, на досках фашистских объявлений начали появляться листовки. Они были разные — и написанные чернилами, и напечатанные на машинке. Это были в подавляющем большинстве сводки Советского Информбюро. Днем фашисты и их прислужники срывали, соскребали эти разноцветные листочки, которые несли правду людям, а наутро листовки вновь привлекали внимание людей. Гитлеровцы бросали в застенки СД тех, кто осмеливался читать листовки.
Замешательство и страх, вызванные в первые дни оккупации быстрым продвижением гитлеровцев, держались в городе недолго. Все крепче в сознание людей входило слово «война». Растерянность, которая охватывает молодого солдата в первом бою, проходила. Не только Иван Кабушкин, сотни минчан внимательно присматривались друг к другу, старались определить, у кого хватит мужества, выдержки, ловкости, чтобы схватиться с лютым врагом здесь, в стенах родного города.
Нет, Минск не опустел, как казалось на первый взгляд в начале оккупации. Он только затаил дыхание. В нем еще сильней и горячей бились сердца коммунистов и беспартийных патриотов, не успевших эвакуироваться в советский тыл или уйти в армию. Сотни членов, кандидатов партии и комсомольцев по разным причинам остались в оккупированном Минске. Вокруг них были десятки тысяч патриотов без партийных или комсомольских билетов. Двадцать четыре года Коммунистическая партия воспитывала в них любовь к Родине, советский характер, и вот началось испытание этой любви огнем.
Каждый своим путем шел на подвиг.
Володя Омельянюк вернулся домой, еле переставляя ноги. Голова его была обернута обрывками рубашки, на них чернела запекшаяся кровь. Мать испуганно всплеснула руками:
— Сыночек, мой родной, что с тобой?
По широкому морщинистому лицу матери потекли слезы, крупные, частые.
— Ничего страшного, не волнуйся, — обнимая сгорбленные плечи матери, успокаивал ее Володя. — Под бомбежкой несколько раз лежал, вот и царапнуло немного. Не сильно. Устал я ужасно. Три недели ни минуты покоя...
— Переоденься да ляг, миленький, отдохни, пока отец вернется. Он к Степану Ивановичу пошел, о чем-то секретничают старики. Боюсь я за них.
Она захлопотала около сына, помогла ему умыться, начала торопливо готовить обед. Как только Володя сел за стол, сон сморил его. Проглотив кое-что из приготовленного матерью, он свалился на диван.
Проснулся, когда старики сидели возле стола и тихо о чем-то говорили.
— Мое почтение студенту, — с ласковой улыбкой сказал Степан Иванович Заяц, сосед и старый приятель отца, заметив, что Володя открыл глаза.
— Был студент, да весь вышел, — в тон ему ответил Володя, пожимая руки старикам. — А теперь — будущий боец Красной Армии.
— Неужели? — все еще улыбаясь, спросил Степан Иванович. — Ой, не догонишь ты ее, родную. Смотри, куда фронт переместился, давно уже не слышно орудий. Как доберешься к своим?
— Отдохну немного, найду надежных хлопцев — и айда...
Старики посмотрели друг на друга и согласно кивнули головой. У обоих за плечами большая, красиво прожитая жизнь, партийный стаж с первых дней революции. Володя всматривался в их лица, стараясь угадать, о чем думают старики.
— Конечно, было бы неплохо, если бы твои слова сбылись, — включился в разговор отец. — Но разве это единственный выход — пробиваться через линию фронта? Вот мы со Степаном Ивановичем посоветовались и решили, что тебе незачем идти отсюда. В Минске осталось большинство населения. Кроме того, здесь задержались тысячи бойцов и офицеров разбитых частей. Это также армия. Нужно только организовать ее, а вот организация будет зависеть от нас, коммунистов. Ты — журналист, такие люди очень нужны в подпольной работе. Поверь нам...
Володя задумался. Предложение стариков сводило на нет все его планы, созревшие в нем, пока он пешком шел из Белостока, где перед войной проходил производственную практику.
Да, в словах стариков есть свой резон. Жизнь требует, чтоб он стал бойцом подпольной армии большевиков. Невидимой, гибкой, своеобразной армии. Что ж, если так нужно для дела, он готов.
— Мы на это рассчитывали, — довольно сказал Степан Иванович. — Теперь нас уже трое, да и мать можно считать подпольщицей. Вот и четверо. А в подполье четыре бойца — серьезная боевая сила, если они действуют разумно. Давайте понемногу, осторожно изучать людей, привлекать к нашему делу. Только нужно строго соблюдать конспирацию. Это — главное условие нашего успеха. Доверять — только самым надежным. Попадешься — пощады не жди, враг жестокий и опасный.
Жили тогда Заяц и Омельянюки на улице Чернышевского. Тихая, не очень красивая улица. Фашисты отключили ее от электролинии — никто из гитлеровцев здесь не квартировал.
Домик Омельянюков — небольшой, деревянный. В комнате Володи, выходившей окнами во двор, на стене висело большое зеркало, а возле него стояла тумбочка. На ней обычно лежали разные туалетные принадлежности, стоял флакон одеколона.
Теперь, после разговора со стариками, он смотрел на свое жилье совсем иными глазами. Прикидывал, что здесь нужно приспособить для подпольной работы.
Вечером позвал к себе соседа — Сашу Цвирко, которому мог кое-что доверить, и сказал:
— Есть у меня одно дело, не знаю, поддержишь ли ты меня.
— Если хорошее дело, то поддержу.
— Конечно, хорошее. До радиозавода не так далеко. Туда дают электричество. Если бы нам удалось провести линию сюда, можно было бы пользоваться электроэнергией. Конечно, это нужно сделать незаметно, чтобы немцы не увидели. Я знаю, у тебя есть «кошки» по столбам лазить. Давай проведем себе линию. Зимой дров не напасешься, а так и погреться и сготовить еду можно. Рискованно, зато выгодно.
Володя знал, что Саша хлопец решительный, потому и рассчитывал на него, и не напрасно. Две ночи не спал тот, пока не провел линию.
За зеркалом в комнате Володи была приделана розетка. В тумбочке стоял небольшой радиоприемник. Включив его, Володя осторожно поворачивал переключатель диапазонов. В приемнике хрипело, трещало, доносились обрывки фраз на немецком языке. Потом зазвучал такой дорогой, родной голос Москвы. Симфонический оркестр исполнял марши. Диктор называл авторов музыки и исполнителей.
Часы показывали без четверти одиннадцать. Выключив приемник, Володя стал ждать, когда наступит половина двенадцатого. Тогда Москва будет передавать сводку Советского Информбюро.
Окна в доме были плотно завешены. На тумбочке горел небольшой каганец, лежала чистая бумага и три очиненных карандаша. Откинувшись на спинку стула и сцепив руки над головой, Володя думал.
Как перевернула всю его жизнь проклятая война! Он уже заканчивал институт журналистики. Учился отлично. Впереди была интересная работа.
Никто, пожалуй, не имеет такой возможности окунуться в гущу жизни и так много видеть и слышать, как работник газеты. С кем ему только не приходится встречаться, где он только не бывает! Изучать жизнь, изучать людей, писать о их работе горячо, взволнованно — вот заветная мечта Владимира Омельянюка. И что осталось от его мечты? Одни воспоминания.
А может, это и не так? Теперь он также будет писать для советских людей. Оттого, что в наш дом ворвались фашистские разбойники, минчане не перестали быть советскими людьми. Они мстят врагу, не поддаются фашистской пропаганде, хотя она назойливо отравляет головы своей ложью. То тут, то там в руинах находят убитых гитлеровских вояк. Владимир Омельянюк также должен бить врага могучим оружием — правдивым словом коммуниста. Его место в этом строю.
В половине двенадцатого снова включил приемник.
— Говорит Москва. От Советского Информбюро...
Торопясь, писал вместо слов отдельные буквы и слоги, стараясь записать всю сводку.
Она была не радостная, но правдивая. На фронтах шли тяжелые, упорные бои. Противнику в ряде мест удалось потеснить наши войска, но и он понес большие потери. Назывались оставленные нашими частями города, цифры потерь немецко-фашистской армии.
Однако какой утешительной была эта сводка в сравнении с немецкой брехней! Уже давно и фашистские газеты, и радио трубят, что гитлеровцы в бинокли видят Москву. А выходит, что до Москвы им еще далеко!
Володя взял пишущую машинку, подготовил бумагу, копирку и начал печатать сводку. До самого утра просидел за работой. В конце сводки добавил от себя призывы к минчанам: бить фашистов всем, чем только можно, отравлять им жизнь, чтобы гитлеровским выродкам тошно стало в советском Минске.
Только на рассвете лег спать. А утром все напечатанное отдал отцу.
— Молодец ты, Вова, — похвалил отец парня и, положив листовки в сумку, понес их Степану Ивановичу.
На другой день листовки со сводкой Советского Информбюро Володя видел на телеграфных столбах, на дверях домов, на досках объявлений по всей Комаровке. Видно, Степан Иванович уже имеет группу надежных людей, которые с успехом выполнили такое опасное поручение.
Оттого, что его работа не пропала даром, что она влилась в общее дело борьбы с врагом и что многие минчане успели узнать правду о положении на фронте, на сердце у Володи стало радостно, светло. Хотелось работать лучше и больше, разжигать огонь ненависти к врагу в сердцах советских людей, пламенным словом звать их на беспощадную борьбу.
Однажды Володя шел по Советской улице и повстречал знакомого студента юридического факультета Васю Жудро. Оба приятеля очень обрадовались встрече. На улице разговаривать было небезопасно, договорились, что Вася придет к Володе вечерком.
Дома, когда остались вдвоем, внимательно посмотрели друг другу в глаза.
— Как живешь? — спросил Володя.
— А как я могу жить? Разве это жизнь? Воевать нужно, друг, воевать. А ты что, иначе думаешь?
— Почему иначе? Но ведь нужно конкретное что-то придумать. Мы — коммунисты, пропагандисты, а пропаганда среди населения в наших условиях — та же борьба. Нужно поднять людей на партизанскую войну. Читал сводки Советского Информбюро?
— Не читал, а слыхал. У моих знакомых приемник есть, слушаем иногда Москву. Я согласен с тобой. Только у нас пока что, кроме желания бороться, ничего нет. Никакой материальной базы.
— Давай обсудим это с некоторыми людьми. Приходи к нам завтра в полдень.
Был конец июля. Над городом висела раскаленная дымка. Все еще пахло горелым, першило в горле. Тяжко было дышать не только от духоты, но и оттого, что по городу разгуливали люди в ненавистных зеленых фуражках с высоким верхом, с кокардой, что на каждом шагу встречалась эмблема — череп, а под ним скрещенные кости, что на каждом столбе можно было прочитать слово «смерть».
Как раз в полдень Вася был у Володи. Здесь уже собралась небольшая группа людей — хозяева квартиры, Степан Иванович Заяц, Николай Александрович Шугаев, Арсен Викентьевич Калиновский и другие. Володя шепотом сообщил, что почти все присутствующие — старые коммунисты.
— Не может быть, чтобы в таком большом городе не было подпольного горкома партии, — говорил Степан Иванович. — Нужно настойчиво искать. По городу распространяются листовки. Значит, кто-то действует кроме нас, энергично, умело действует. Мы должны найти подпольный комитет и установить с ним тесную связь. Общими силами можно сделать значительно больше.
Володя горячо поддержал его:
— Нам бы теперь типографию... Хотя бы маленькую, на многотиражку. Эх, и писал бы я! Огнем и кровью писал бы, чтоб мертвого расшевелить! Без связи с подпольным горкомом типографии нам не оборудовать. Это дело размаха требует, а мы пока что ремесленничаем. Я считаю, что нам нужно установить более тесный контакт с предприятиями. Там же работают наши, советские люди, которых гитлеровцы силой согнали к станкам. Мы не имеем права обходить их. Если на предприятиях мало коммунистов, нужно создавать антифашистские группы. Только так мы можем влиять на население. Прежде всего нам нужно наладить связи с Домом печати и радиозаводом. Там мы найдем надежных людей.
Разошлись по одному только под вечер. У каждого на сердце было радостно. Пусть их еще мало и ничего существенного они пока что не сделали, но уже создается какая-то группа, организация.
Или от приподнятого настроения, или оттого, что солнце уже склонялось над Сторожевкой и на улице посвежело, — дышать стало легче.
Володя сидел в огородике и задумчиво смотрел на восток. Там на бледно-голубом небе появлялись тучки. За крышами ближайших домов он не мог рассмотреть: приплывают ли тучки откуда-то издалека, с востока, или вскипают серой пеной здесь, за городом. Прошло каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, и половина неба уже стала черная. Солнце покраснело и словно расплылось в кипени туч, которые ползли с востока. Сделалось темно, как ночью. Молнии полосовали небо.
— Большая гроза будет, — услыхал Володя за спиной довольный голос отца. — Это хорошо. Дышать станет легче.
Город в первые дни войны и оккупации будто магнитом притягивал к себе людей. Здесь легче было найти убежище, скрыться от врага, получить помощь, наладить нужные связи.
Неудивительно, что и Бориса Григорьевича Бывалого потянуло сюда, в Минск. Правда, у него и выхода другого не было. А произошло все так.
Был он комиссаром артиллерийского полка. Раненный в бою под Волковыском, очутился в окружении. На хуторе между деревнями Большие и Малые Жуховицы один колхозник увидел обессиленного, окровавленного комиссара и пригласил в свою хату.
На следующий день поблизости начали шнырять немцы.
Глядя на звездочку на рукаве Бывалого, колхозник сказал:
— Переоденьтесь, товарищ комиссар, пока не поздно. Зачем понапрасну жизнью рисковать? Все равно сейчас вам командовать не придется и комиссарская форма не нужна. Вот вам наша домотканая одежка, она лучше подойдет, — и подал довольно поношенную полотняную рубашку, посконные штаны, шапку, старые ботинки.
В печке весело потрескивали еловые дрова. Когда Борис Григорьевич переоделся, хозяин собрал его обмундирование, свернул и бросил в огонь. Языки пламени жадно начали лизать добычу.
— А теперь вам удобней будет спрятаться в гумне. Оно у нас на отшибе, среди поля, километра за два отсюда. Я отведу вас туда, а мой отец будет утром и вечером приносить еду. Там и переждете напасть. Не будут же фашисты торчать у нас всегда, им здесь нечего делать. А потом подумаем, как быть дальше.
Пять дней прошло с того времени, как он обосновался в гумне. Здесь было тихо и безлюдно. Ночью выпала роса, и, когда всходило солнце, на небольшом пригуменье сверкала лучистая, с искристыми переливами радуга. Потом роса исчезала. Выбравшись из гумна, Борис Григорьевич лежал на спине и следил, как спокойно плыло по небу белопенное кудрявое облачко — красивое, но холодное, безразличное ко всему.
Около гумна шумело море колосистой ржи. Над красными шишечками клевера с гуденьем кружили шмели. Под легким дыханием ветра еле приметно трепетали синие лепестки васильков. Однако красота цветов уже не трогала души Бывалого.
Тупо, непрестанно болела рана. Она ни разу не была перебинтована и могла загноиться. Надеяться на какую-либо медицинскую помощь не приходилось — кругом только поле да вдалеке виднелся хутор, откуда вечерами заботливый старик приносил еду и воду.
Вечерело. Борис Григорьевич перешел на свое постоянное место — в гумно. Ворота открывались внутрь. За ними на соломе лежали одеяло и свитка, принесенные ему хозяевами. Примостившись, он уже хотел заснуть, как вдруг услышал шум, громкий крик, а затем и стрельбу. Забыв о своей ране, Бывалый подхватился и припал к щели в стене. В негустых еще сумерках увидел, что напрямик по полю за красноармейцем гонятся два фашиста. Время от времени они останавливаются, чтобы выстрелить, а он бежит по ржи в сторону гумна.
Совсем недалеко от гумна красноармеец вдруг свернул куда-то. Немцы погнались за ним.
Спустя некоторое время послышались их голоса. Снова Бывалый припал к щели. По только что проложенной во ржи тропке гитлеровцы дошли до гумна и остановились. Борис Григорьевич немного знал немецкий язык.
— Пойдем посмотрим, — услышал он предложение одного из фашистов.
— А чего мы там не видели? — возразил другой. — Поздно уже, не трать зря времени.
— Нет, на всякий случай нужно глянуть, — настаивал первый. — Может, там какой-нибудь коммунист прячется. От них всего ожидать можно.
И он направился к открытым воротам, за которыми сидел Борис Григорьевич.
В гумне было уже совсем темно. Прижавшись к стене, Бывалый держал пистолет на взводе. Все внутри у него похолодело, дыхание спирало. С надеждой и страхом смотрел он, как луч электрического фонарика скользил по стенам и углам гумна. Вот он проплыл мимо комиссара и метнулся в другую сторону.
Все обошлось бы тихо, но по своей немецкой аккуратности фашист не мог оставить ворота открытыми. Он начал закрывать их. Луч света упал на Бывалого. Борис Григорьевич выстрелил. Немец, державший фонарик, грохнулся на землю. Выстрелил в другого, но только ранил. Фашист успел схватиться за карабин. Тогда Бывалый выпустил в гитлеровца всю обойму.
Когда стрелял, совсем забыл о том, что это его последняя обойма, и теперь он остался безоружным. Потом спохватился: так ведь у немцев есть оружие! Взял карабин, отполз метров на двести от гумна и лег.
Во ржи стрекотали кузнечики. Тихо шелестели колосья. Слышались какие-то таинственные, приглушенные звуки летнего вечера. А человеческих голосов или стрельбы не было слышно. Так во ржи он пролежал часа два, внимательно прислушиваясь.
Мысли набегали одна на другую. Оставаться здесь дольше нельзя. Если не ночью, так завтра гитлеровцы пойдут искать этих двоих. Тогда уже от них не выкрутишься, и хозяев могут схватить.
Поднявшись, поковылял к хате. Тихо постучал в окно. Видимо, в хате испугались, заметались. К стеклу припало лицо хозяина.
— Кто?
— Это я, откройте.
Огня, конечно, не зажигали, говорили шепотом.
— Я там, около гумна, двух фашистов прикончил, — сообщил Борис Григорьевич. — Так вы их сейчас закопайте, пожалуйста, чтоб беды не было.
— Куда же мы вас теперь денем? — засуетился хозяин. — В таком разе и спрятать никуда не спрячешь, искать будут внимательно.
Согласились, что нужно идти в город. Там и опасности меньше, и медицинскую помощь можно получить. Хозяйка торопливо налила бутылку молока, положила в торбу большую краюху хлеба. Сын хозяев проводил Бывалого на большак.
— Вот так и держитесь большака, — посоветовал он на прощанье. — На проселки не сворачивайте, — там стреляют сейчас без разбору. А тут по обочине тысячи людей проходят, на вас никто не обратит внимания.
На другой день кое-как добрался до районного центра Столбцы. Узнал, где госпиталь для военнопленных.
Госпиталь находился в здании райкома партии. Он был переполнен ранеными, лежавшими не только на полу в комнатах и коридорах, но и во дворе. От здания несло невыносимым смрадом. Стоял беспрерывный стон. От одного раненого к другому бегал военный врач, пленный. Улучив момент, Бывалый подошел к нему и попросил посмотреть рану. Врач вначале разозлился:
— Ходят здесь разные гражданские... И без вас тошно, тут военных полно... Ну хорошо уж, давайте вашу рану...
Осмотрел, обработал, перевязал, а потом уже другим тоном говорит:
— Пустяки, с этим до ста лет доживете. Кстати, я в госпитале вас оставить не могу... Здесь раненые военные.
— Тогда, может быть, поесть дадите?
— Что с вами сделаешь... Идите к заведующему хозяйством, можете пока у него остаться, будете помогать ему.
Заведующим хозяйством был коммунист Микола Требников. Когда немцы начали грузить на машины раненых, он набрал продуктов и предложил Бывалому:
— Давайте добираться до Минска.
В середине июля они были уже в столице. Город еще горел. Он напоминал огромное кладбище. Бывалый и Требников бродили по опустелым улицам, но не находили не только знакомых людей, но и знакомых домов. Казалось, огромной силы землетрясение разрушило Минск до основания.
Усталые, сели на скамейку в Центральном сквере. Приближался вечер, а у них еще не было угла для отдыха. А как же ночью, куда деться? В конце концов, можно было бы переспать и под этими каштанами и кленами, но фашисты схватят, и тогда все — погибель.
По аллее тихо шел худой, покрытый дорожной пылью человек. Он держал за руку мальчика лет шести-семи, который еле тащил ноги. Поравнявшись с Требниковым, остановился, пристально всмотрелся в него и вскрикнул:
— Микола, здравствуй!
Они горячо поздоровались. Это был старый знакомый Требникова. Он с семьей пытался эвакуироваться, но в дороге его жену убило бомбой, а он с сыном вернулся в Минск. У него здесь были знакомые. Теперь они живут на углу Пролетарской набережной и улицы Кирова.
Туда и направились всей группой. В одной из комнат какой-то бывшей республиканской организации жили три женщины. Война заставила покинуть обжитые, насиженные места десятки, сотни тысяч людей и гоняла их по городу и вокруг города. И эти три имели раньше квартиры где-то в другом районе, но их дома разбомбило, и женщины переселились сюда.
Увидя обшарпанного, заросшего, раненого человека, они сразу же догадались, что это не иначе как командир Красной Армии.
— Пойдемте к нам, отдохнете, — предложили они Бывалому.
— Теперь от этого не отказываются, — сказал он, заходя в комнату. — Но я должен предупредить, что вы рискуете...
— Дважды никто не умирает...
Одна из женщин полезла в чемодан, вытащила одежду мужа, которая как раз подходила Бывалому, прибор для бритья. На примусе нагрели воды, поставили корыто, и впервые за много дней Борис Григорьевич с наслаждением побрился, помылся и переоделся в чистую одежду. Микола Требников, увидев Бывалого после такой обработки, даже ахнул:
— Вот это здорово! Ну, я теперь спокойно могу пробираться к своим. Буду уверен, что вы попали к хорошим людям. Лечитесь, а потом сами увидите, что делать. Будьте здоровы!
И они простились, как братья.
А Бывалый так и остался жить здесь под видом родственника одной из женщин, случайно попавшего в Минск. Вначале выходил на улицу редко.
В скором времени немцы открыли «заявочное» бюро при городской управе. Все местные жители, потерявшие свои документы, должны были подать заявления, чтобы получить временные удостоверения и прописаться в домовых книгах. Только нужно было иметь двух поручителей. Хозяйки комнаты поручились. Так Борис Григорьевич Бывалый сделался постоянным жителем города Минска. Теперь ему можно было смелей выходить на улицу, встречаться с людьми. Появились новые знакомые, главным образом командиры, попавшие в окружение.
Собравшись как-то у Бывалого, командиры Бочаров, Бодров, Соколов договорились, что нужно добывать оружие. Взять его можно только у врага.
Бочаров и Соколов однажды вечером пошли в парк имени Горького. Давно уж не было дождей, листья стали серые от пыли, и даже на аллеях дышалось тяжело.
Пройдя по берегу Свислочи, свернули в руины. Несмело проложенная тропинка вилась между огромных груд битого кирпича, мимо уцелевших стен разрушенных домов. Зашли за одну высокую стену, сели.
Золотистым багрянцем налилось солнце за Свислочью. Золото постепенно блекло, приобретало малиновый цвет. Командиры сидели задумчивые и прислушивались. Было тихо, будто на кладбище. Сгущался сумрак, и в его бездонной глубине издалека было слышно, как со свистом пролетала над головой летучая мышь. Вдруг где-то в парке послышался надрывный крик совы. Командиры насторожились. Может, это сигнал какой? Откуда же сова в городе?
Крик больше не повторился. Не было слышно и никаких других звуков. Кто его знает, может, война и сову прогнала с насиженного места? Мало ли что может случиться в такую небывалую завируху?
Они уже собирались идти домой, когда услыхали неровные шаги и бормотанье. Со стороны Комаровки, шатаясь и размахивая руками, плелся пьяный немец. Он что-то ворчал себе под нос, видимо проклиная кривую неровную дорогу. Пропустив его, Соколов сзади ударил пьяного тяжелым куском железа по голове. Забрав пистолет, оттащили труп в руины и забросали кирпичом.
Глухими тропинками пробирались на свои квартиры.
В другой раз пошли на добычу оружия в руины возле Театра оперы и балета. Теперь уже у них был пистолет. Но, чтобы не нарушать тишины, расправлялись с фашистами ножами.
Оружия и патронов становилось все больше и больше. Но не всегда везло на пистолеты и автоматы. Часто под руку попадались рядовые гитлеровцы, у которых, кроме тесаков, ничего не было. В укромном местечке собралось уже около дюжины тесаков.
— Когда-нибудь и они потребуются, — подбадривал товарищей Бывалый.
Он тем временем искал подполье. Удалось напасть на какой-то след. Во второй половине сентября 1941 года получил явку, встретился с подпольщиками, которые уже приметили деятельность группы военных.
Встреча произошла на квартире командира Красной Армии Георгия Глухова, проживавшего на Советской улице неподалеку от Дома правительства. Кроме хозяина квартиры здесь было еще несколько человек. Один из них сразу же привлек к себе внимание Бывалого. Это был кавказского типа человек с резкими чертами лица. Большие темные глаза его проницательно заглядывали в самую душу собеседника. Этот человек напоминал «морского волка», которому довелось многое повидать на своем веку. Знакомясь, он крепко пожал руку и отрекомендовался:
— Славка Победит.
Борис Григорьевич назвал свою фамилию.
— Неплохо, если бывалый, — принимая фамилию за подпольную кличку, заметил Славка. — Ну, а если вы человек бывалый, то и дело с вами легче вести. Мы, - и он показал на присутствующих, — уже некоторое время имеем вас на примете. Ваша группа делает неплохое дело, уничтожая фашистов. Но все, что уже сделано, — только крупица того, что можно сделать и к чему обязывает вас партия.
На душе у Бывалого посветлело. Значит, партия действует! Она внимательно следит за поведением каждого из тех, кто очутился в тылу врага. Глаза ее видят, кто и как ведет себя в эти суровые дни.
— Наша общая первоочередная задача, — продолжал Славка Победит, — установить связь с партизанскими отрядами. Они есть, но, видимо, еще маленькие, неорганизованные. Кроме того, нужно создавать новые отряды. Вы, военные, должны сыграть в этом деле решающую роль. У вас есть соответствующая подготовка, умение руководить людьми в бою. А этого как раз не хватает молодым партизанским отрядам, которые организуются из гражданских людей. Если у вас что-нибудь конкретное наметится, дайте мне знать.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду партизанский отряд. Если вы организуете хорошую группу, обязательно сообщите. У нас найдется кое-что для отряда. В частности, есть у нас оружие, боеприпасы, продукты, медикаменты, одежда. Главное — умело организовать людей в самом начале. Потом недостатка в бойцах у нас не будет, если народ увидит наши дела.
— Хорошо, товарищ Победит, — согласился Бывалый. — Мы будем искать новые связи с бойцами и командирами, которые застряли в Минске. Потом, по-моему, нужно активней выводить командиров и бойцов из лагерей военнопленных...
— Это уже делается. У нас есть все данные считать, что это дело организовано неплохо. Но и вы действуйте более энергично.
Первая встреча с подпольщиками подбодрила группу Бывалого. Была найдена ниточка, которая должна была оторванных пока что от всего мира, но до конца преданных Родине людей связать с партией, а значит — со всем советским народом.
В скором времени к Бывалому зашел политрук Бочаров. Он был чем-то озабочен.
— Борис Григорьевич, я напал на следы какого-то полковника, который уже организовал партизанский отряд, и находится он в Минске. Мне говорили, что полковник охотно возьмет нас к себе.
Партизанский отряд в Минске? Небольшая группа — иное дело, а то — целый отряд! Правда, в городе часто рассказывают об убитых ночью немцах, о минах, которые взрываются то в фашистских учреждениях, то на железной дороге. По всему видно, что действуют партизаны и подпольщики.
— Ты уверен, что это не провокация?
— Конечно, гарантии дать не могу, но с полковником многие держат связь и никто еще не провалился. Можно попробовать.
— Хорошо. Назначим ему встречу в руинах возле Театра оперы и балета послезавтра в три часа дня. Посмотрим, что там такое.
Большой группой идти нельзя — заметят фашисты. Отправились вчетвером. Бывалый, и Бодров шли впереди, а позади, на определенном расстоянии, держались вооруженные пистолетами Бочаров и Соколов. В случае провокации Бочаров и Соколов должны были огнем прикрывать отступление Бывалого и Бодрова.
Среди руин стояла небольшая деревянная хатка. Из-за нее навстречу Бывалому и его друзьям вышел высокий худой человек. Гражданская одежда не могла скрыть от опытного глаза безукоризненную выправку профессионального военного. За ним, держа руки в карманах, также на некотором расстоянии, шли еще двое. Они внимательно следили за группой Бывалого, как видно готовые в любой момент пустить в ход оружие.
— Кто вы? — строго, требовательно спросил, будто скомандовал, стройный худой человек, сверля Бывалого суровым взглядом черных глаз.
— А вы кто?
— Нет, я первый спросил, вы должны и ответить.
— Почему я? Назовите вы себя, тогда я скажу.
— Что же, мы так весь день будем торговаться? Если вы всерьез хотите, иметь дело со мной, то должны ответить на мой вопрос.
— Как же я могу ответить на ваш вопрос, не зная, кому я отвечаю?
Минут десять прошло в таких спорах. Охрана, одна и другая, начала нервничать. Тогда незнакомец сказал:
— Я — командир двести восьмой стрелковой дивизии полковник Ничипорович.
— Из чего это видно?
— Вот мое удостоверение...
Он достал из нагрудного кармана и, не выпуская из рук, показал свой документ.
Бывалый назвал себя, добавив:
— Ну, а у меня нет никаких документов, все уничтожил. Зато меня знают люди. Я пришел к вам потому, что слыхал, будто у вас есть отряд. Хочу совместно биться с врагами.
— Да, отряд есть, — подтвердил Ничипорович. — Только он еще не действует.
— Сколько у вас людей?
— Не считал. Человек пятьдесят.
— Все военные?
— Почти что. А у вас сколько?
— Около этого. Человек тридцать.
— Вот что, товарищ Бывалый, давайте мы завтра еще раз встретимся на Червенском рынке в это же время. Согласны?
— Хорошо.

После того как пришли фашисты, рынки стали самыми многолюдными местами в городе. В магазинах ничего не было. Рынок спасал город от голода и холода. Здесь кишели спекулянты, перекупщики, гестаповцы и полицейские шпики. Рыночной суетой часто пользовались и подпольщики.
В толчее крикливой, горластой толпы Бывалый еще издалека увидел высокого, статного Ничипоровича, который азартно торговал что-то у спекулянта. Подойдя, Бывалый вмешался в разговор. Он нарочно давал никчемную цену за товар, который ему совсем был не нужен. Сделав вид, что они оба разозлены упрямством торгаша, Бывалый и Ничипорович отошли, ругая скупердяя.
Так вместе и пошли с рынка. Время от времени Бывалый незаметно оглядывался — не следит ли кто-нибудь за ними. Но все было спокойно.
Зашли к одному знакомому. Там Ничипорович признался:
— Вы меня простите, что я вчера немного соврал. Отряда у меня еще нет. Я так сказал на случай провокации. Если бы на вашем месте был провокатор, он побоялся бы тронуть меня, думая, что в руинах целый отряд. А мы можем создать отряд. Давайте вместе займемся этим. Если сами не создадим, то хотя бы установим, связь с партизанами и перейдем к ним.
Это признание немного разочаровало Бывалого, но ведь все-таки несколько командиров держалось возле Ничипоровича. Славка Победит прав: партизанам нужны командные кадры.
Нужно было посоветоваться с партийной организацией, что делать дальше. Направился на квартиру Глухова. Там уже было несколько подпольщиков, которых он видел в прошлый раз. Только одного не знал. Это был высокий, молодой, атлетического склада человек, с красивыми волнистыми волосами. Добродушные голубые глаза смотрели весело, по-юношески задорно. На нем был новенький, отутюженный, модного покроя коричневый костюм с кончиком белого платочка в карманчике на груди и безукоризненная белая сорочка с модным галстуком. Еще издалека от него тянуло запахом хорошего одеколона.
Держал себя парень свободно. Разговаривал легко обо всем, что только ни затрагивали в разговоре. Весело смеялся, шутил. Стоило хозяйке зайти в комнату, как он подчеркнуто начал увиваться возле нее, сыпал как из мешка комплиментами. Женщина отвечала на них теплой улыбкой.
Поведение парня никак не совпадало с общим настроением.
Знакомясь с Бывалым, он назвал себя коротко:
— Жан.
Улучив момент, когда Жан, весело смеясь, заговорил о чем-то с хозяйкой, Бывалый, поморщившись, кивнул в его сторону и спросил у хозяина:
— Почему вы ему доверяете? Видно птицу по полету...
— Его многие знают. Все говорят, что человек надежный, действует умело и многое делает. Не обращайте внимания на внешний вид...
Поговорив о своих делах, Бывалый направился домой. Все время его тревожила мысль: зачем к подпольной работе допускают таких легкомысленных болтунов, как этот Жан? Долго ли такому погубить дело? Ведь не в игрушки играть собрались...
Спустя некоторое время Победит пригласил Бывалого к себе на квартиру. И снова там Бывалый встретился с Жаном. Был тот уже в другом костюме, но такой же выглаженный, надушенный и такой же разговорчивый.
— Простите, товарищ Победит, но меня удивляет легкомыслие этого молодого человека, — с раздражением заметил Бывалый, когда Жан вышел. — Как можно иметь дело с таким болтуном?
Большие карие глаза Славки засветились улыбкой.
— Не беспокойтесь, товарищ Бывалый. Это наш товарищ, надежный. Вы еще увидите, чего он стоит.
Что делается там, на востоке? Где теперь линия фронта? Уже через неделю после оккупации Минска гитлеровцы начали трубить, что захватили Москву. Но с востока в Германию шли и шли эшелоны с ранеными солдатами и офицерами гитлеровской армии. Значит, где-то Красная Армия перемалывает фашистские полчища. Хотя бы краем уха послушать сводку Советского Информбюро!
Некоторым из тех, кто жил на Чкаловской улице, стало известно, что у уборщицы Авгиньи Баран есть радиоприемник. Когда в шесть часов утра немцы давали ток в депо, жители барака, в котором жила Баран, собирались послушать последние известия из Москвы. Приемник был неисправный — в нем нельзя было регулировать громкость, и кричал он на весь поселок. Передачу можно было слышать издалека. А гитлеровцы в первый же день оккупации, угрожая смертью, объявили, что все жители города обязаны сдать оружие и радиоприемники.
— Погибнешь ты, Авгинья, да и нас погубишь, — говорили соседки.
— Мне все равно, — отвечала она. — Погибну так погибну. Немцы мне не принесли счастья. Рано или поздно придется помирать: я одинокая, больная...
Спустя некоторое время она решила уехать а деревню, а приемник передать подпольщикам, которые часто приходили записывать сводки. Последний раз послушав Москву, Авгинья Баран помогла Апанасу Балашову переправить приемник на Чкаловскую улицу.
Установили его в первой квартире дома № 26.
Там же, на первом этаже, в помещении бывшего магазина немцы оборудовали обувную мастерскую и провели туда электрический свет. Электрик Андрей Остроух подключил ток и к квартире подпольщиков.
Все было подготовлено для того, чтобы послушать Москву. Но приемник так кричал, что включать его было очень опасно — фашисты обязательно услыхали бы. Нужно было что-то придумать.
Послушать передачу пришли Балашов, Вагабов, Кузнецов, Куприянова, Степура. Занавесили окна и двери ватными одеялами, попробовали включить — ревет как ошалелый. Тогда мужчины склонились над приемником, а Куприянова набросала на них груду одеял и подушек. Звуки приглушились.
Включили еще раз. Сквозь шум и писк прорвались слова русской песни. Надрывный мужской голос пел:
Машинушка, трогай, трогай,
Я пошел своей дорогой...
— Нет, это — паскудство, ищи Москву! — тихо, но требовательно сказал Балашов чуть ли не в самое ухо Вагабову.
Снова русские слова... И снова не Москва...
— Что ты все фашистскую брехню ловишь, — не унимался Балашов. — Москву давай!
— Давай, давай... Будто я могу достать ее из кармана и положить тебе на ладонь... Потерпи немножко...
— Да и так уж давно терпим.
— Ну, хватит, — примирительно заметил Кузнецов. — Не нужно горячиться. Ищите Москву.
И вот Москва отозвалась. Родные, знакомые голоса передавали последние известия. Только послушали сводку, как кто-то начал сильно барабанить в дверь. Быстро все собрали, спрятали приемник в диван. А тот, за дверью, стучал все сильней и сильней...
Красные, потные вылезли из-под одеял и подушек. Опытный глаз сразу заметил бы, что здесь происходило что-то необычное. Открывать дверь было опасно, но еще опасней не открывать. А что, если полицаи? Не откроешь — сломают дверь.
Вошел штатский.
— Паны, я из городской управы. Собираю пожертвования. Минск разрушен, выбиты почти все окна. Нужно организовать производство стекла. Управа обращается с просьбой к панам минчанам помочь средствами... Мы пытались купить стекло в Варшаве, но там запросили столько золота...
— Какие у нас средства? — нашелся Степура. — Нам самим даже курить нечего. Мы вот сейчас в карты играли на махорку.
Чиновник управы попробовал уговаривать «панов», но ему решительно отказали, и он ушел...
Так принимать сводки было весьма опасно. Подпольщики ломали голову над тем, где найти исправный приемник.
С группой железнодорожников установил связь один бывший торговый работник. Он раздобыл приемник в гетто. Нужно было только забрать его оттуда. Четырнадцатилетняя дочка этого человека перенесла приемник из гетто на Суражский рынок. Там был магазин, где заведующим и продавцами работали свои люди. В подвале магазина сделали склад, прятали там имущество подполья, принимали сводки.
Держать приемник на одном месте было рискованно. Балашов переносил его из квартиры в квартиру. Некоторое время сводки принимались в одном из домиков Грушевского поселка. Репродуктор заменили наушниками, это уменьшило опасность провала.
Записывали сводки и передавали по цепочке — от одного надежного человека к другому. А чтобы легче было переписывать, бухгалтер Степанов передал подпольщикам пишущую машинку.
Балашова начали посылать в дальние рейсы. Рядом с ним для контроля всегда был немецкий машинист. Но как он ни следил, опытный мастер своего дела Балашов находил способ задержать поезд. На каждом перегоне он долго чистил топку, выводя состав из графика. Ни разу не возвращался из Орши в Минск на исправном паровозе. Все это делалось так, чтобы фашисты не могли прицепиться.
В первые же дни оккупации подпольщики поручили слесарю И. В. Гомельскому привести в негодность восстановительный поезд. Группа рабочих под его руководством незаметно забрала все дефицитные детали. Поезд вышел из строя. Много времени потребовалось гитлеровцам, чтобы кое-как отремонтировать его. Потом вывели из строя кран, который подавал уголь. Мастер вагонного депо Вадковский систематически направлял исправные вагоны на электросварку, лишь бы только не могли их использовать.
К тому же многие рабочие совсем не выходили на работу.
В депо была уже довольно большая группа надежных людей, выполнявших все указания подпольной организации.
Руководитель подпольщиков Федор Кузнецов заинтересовался Константином Девочкой. Нужно было познакомиться с ним. Придя однажды утром к Константину, Кузнецов увидел в комнате кроме его жены еще одну молодую женщину.
— Это моя сестра Лида, — представил ее хозяин. — Можете говорить при ней смело, она сама уже кое-что делает для нашего общего дела.
— Что именно?..
— Случалось, листовки находила за городом, так разбрасывала их в городе. Но все это мелочи. Бессистемно. Она хочет более активно включиться в наше дело.
— А что вы можете делать? Какая у вас специальность? — спросил Кузнецов Лиду.
— Фармацевт.
— Так это же чудесно! — обрадовался Кузнецов. — Ведь нам такие люди очень нужны. Обязательно устройтесь в какую-нибудь аптеку.
— Работать на врага?
— Почему на врага? Вы будете на нас работать.
Да еще какую пользу приносить советским людям! И не задумывайтесь, немедленно идите работать в аптеку.
Странное дело: как раз об этом же говорил ей недавно еще один человек — Георгий Глухов, который жил в квартире ее хорошей знакомой, Алены Яцевич. Георгий Глухов был командиром Красной Армии, попал в окружение. Обо всем этом Лида узнала от Лены.
Георгий внимательно присматривался ко всем, расспрашивал Лиду, где она работала до войны, что пережила за время оккупации, есть ли у нее надежные люди. Вот тогда и предложил ей:
— Вам обязательно надо идти работать в аптеку, чтобы иметь доступ к медикаментам. Да и место в аптеке чрезвычайно удобное для разных встреч, для знакомства с людьми.
А теперь вот и Кузнецов говорит о том же.
Через день Лида Девочко снова встретилась с Глуховым. Он что-то делал во дворе.
— Работаете? — спросил как бы между прочим.
— Нет еще.
— Давайте зайдем ко мне.
А когда вошли в дом, тихо сказал:
— Сюда придет один мой знакомый. Поговорите с ним.
Вскоре вошел человек, которого ждал Глухов.
— Знакомьтесь. Это Лида Девочко.
— Славка.
На Лиду испытующе смотрели внимательные черные глаза.
— Лида — моя соседка, — объяснил Глухов. — Брат ее работает слесарем в депо, а она пока что ничем не занимается. Человек она надежный и специальность имеет хорошую — фармацевт. Только вот не хочет работать на немцев.
— На немцев? — переспросил Славка. — Почему на немцев? Вы работайте для советских людей. Думаете, больше пользы принесете Родине, если ничего не будете делать? Глупости. Мы должны приспособиться к новым условиям и как можно больше вредить врагу. Где же мы возьмем медикаменты, если в аптеках не будет наших надежных людей?
— Все как сговорились, — тихо сказала Лида. — И Федор Кузнецов говорит то же самое.
— Какой Федор Кузнецов? — спросил Славка.
— Начальник депо.
Глухов и Славка переглянулись.
— Это очень хорошо, что и он советует вам устраиваться в аптеку. Надо учесть это...
А потом, обратившись к Лиде, Славка сказал:
— Идите работать фармацевтом. Считайте это поручением партии. И собирайте все, что может понадобиться партизанам: медикаменты, оружие, одежду... Мы дадим вам адреса и пароли, чтобы вы могли передавать все добытое куда нужно.
Так Лида Девочко начала работать в аптеке.
Больница на углу улиц имени Горького и Пролетарской была заполнена ранеными командирами и бойцами Красной Армии. Они прибывали со всех сторон города — кто пешком, кого несли на плечах свои же товарищи по несчастью, кого везли на подводах.
Несли сюда и гражданских, в которых угодил осколок вражеской бомбы или снаряда.
Медицинского персонала почти не было. Только раненые военные медики помогали товарищам. Но много ли они могли сделать, если их мучили собственные раны и под руками не было никаких медикаментов.
Главным врачом больницы фашисты назначили привезенного из Берлина белогвардейца Зубарева, который люто ненавидел коммунистов. Разве можно было людям ждать от него сочувствия? Во всех зданиях больничного городка непрерывно слышались стоны, крики, плач тяжелораненых.
Даже по коридору пройти было невозможно. Нужно было осторожно переступать через людей, которые в предсмертных мучениях с надеждой и отчаянием смотрели на Викторию Рубец и тоскливо просили:
— Сестрица, милая, дорогая, помоги!
— Не чурайся нас, мы ведь советские люди, сжалься!
— Золотце, солнце ты наше, хоть облегчи наши страдания! Живыми гнием...
— Целую неделю никто рану не перевязывал...
Сердце Вити — так ласково звали Викторию Рубец — словно кто-то сжал клещами. За время работы в больнице она привыкла и к стонам, и к воплям, и к человеческой крови, — лишь бы только после всего этого дело шло на поправку. А что ждет теперь этих несчастных? Только одно: смерть. Не заживут раны — смерть, заживут — тоже смерть. Фашисты расстреливают военнопленных на каждом шагу.
А руки, обессиленные, худые, тянулись к ней, цеплялись за юбку, за ноги, и жалобные, по-детски беспомощные голоса молили:
— Родненькая, миленькая, помоги, не бросай нас!
— Нет, не брошу. Я скоро приду. Только вот оформлюсь на работу — и приду к вам.
— Спасибо, сестричка, будем ждать...

Зубарев никак не мог понять, почему такая интеллигентная женщина решила работать в этом гнойнике. Не скрывая своего восхищения, он любовался ею. Небольшого роста, стройная, с пушистыми черными волосами и большими черными глазами, она невольно привлекала к себе взгляды людей. Ведь недаром когда-то в театре Владислава Голубка Витя считалась одной из самых красивых артисток.
— Вы это серьезно? — спросил Зубарев, когда она попросила принять ее на работу.
— Серьезно.
— Пожалуйста... А вам у нас не опротивеет? Есть у вас медицинская специальность?
— Я медсестра. Работала здесь много лет. Разве моя специальность опротивеет мне лишь потому, что в больнице стало больше изувеченных людей?
— О, если так, я с удовольствием возьму вас. Вы уже видели, работы вам хватит.
— Вот и договорились. Дайте мне халат, медикаменты — и я пойду делать перевязки.
— Пожалуйста. Очень рад иметь в своем штате такую очаровательную женщину.
— Это к делу не относится, господин главный врач, — сразу же оборвала его Витя.
Переодевшись, снова пошла к раненым. Они приветствовали ее радостными восклицаниями.
Работала она весь день. Маленькие ловкие руки нежно прикасались к ранам, нарывам, гнойникам, и раненым от ее ласковых прикосновений становилось легче. Беспомощным, обессиленным людям казалось, что это руки матери утоляют боль, заживляют раны.
И только вечером усталая Витя пришла домой. Сестра, Мария Федоровна, спросила:
— Витя, почему ты так долго задержалась?
— Если бы ты знала, что там делается! Это ужасно! Люди гниют заживо, и никто за ними не ухаживает. Я теперь вижу, что мое место там, среди них.
Каждый раз она приходила из больницы подавленная, со слезами, жаловалась сестре и артисту и художнику Ивану Козлову, который был их квартирантом:
— Мне кажется, сердце не выдержит, глядя на страдания раненых. Многие умирают с голоду... Маруся, давай мы приготовим им хоть какую-нибудь баланду. У нас же есть небольшой огородик, картошка растет. Не могу я так жить, не могу!
Глядя на сестру, тяжело переживала и Мария Федоровна. Витя похудела. Большие черные глаза ее стали еще больше, в них застыла боль чуткой, отзывчивой к чужим страданиям души.
— Что же, если надо помочь людям, то поможем. Много я не сделаю, но кое-что приготовлю.
Накопали молодой картошки, достали маленький кусочек сала, поджарили на нем зеленый лук, приготовили большую кастрюлю супу. На работу Витя не шла, а бежала. Она представляла, с какой радостью встретят ее раненые. От кастрюли шел вкусный, приятный запах.
За все дни оккупации ее маленькие, слегка пухлые, будто выточенные губы впервые осветились улыбкой. Раненые заметили, как похорошело похудевшее лицо, какими лучистыми стали большие черные глаза.
— Сестрица, вы так хорошо улыбаетесь, — сказал один боец. — Даже у нас на душе посветлело.
— К сожалению, очень мало оснований для улыбок и у вас и у меня...
— У вас тоже, видать, большое горе? — спросил боец.
— Большое. Я пробовала выйти из города на восток. Условилась с мужем встретиться под Минском, но разминулись. Потом я узнала, что шли мы с ним совсем рядом и не знали об этом. Даже ночевали в одной деревне — я в крайней хате, а он через три двора, по другую сторону Могилевского шоссе. В одной толпе даже были на станции. А потом начали бомбить немецкие самолеты. Не знаю, как я осталась жива... А его, говорят, убили. Будто бы видели мертвого... Ну, а нас фашистские десантники задержали и погнали обратно в город. Вот я и пошла в больницу, в которой работала до войны. Людям же надо помогать...
Слова, даже самые теплые, самые сердечные, не в состоянии передать чувств в таких случаях. Потому все молчали.
— Что же, мое горе, — тихо проговорила Витя, — только ничтожная капля в море общей беды. Не нужно говорить об этом.
— Да, беда наша общая, и выбраться из нее нелегко, — заговорил один командир, который до этого молча лежал в самом углу палаты. — В одиночку из нее не вылезешь. А если выкарабкаешься, то уже не человеком...
Все поняли, о чем он говорит. Как только у пленных немного заживут раны, фашисты погонят их в лагеря. Гитлеровцы пока что не знают, кто тут гражданский, кто военный. Да и вообще до больницы как следует еще не добрались. Бросили всех в эту яму, и кончено. А как проверять начнут, половину, если не больше, потащат на расстрел. Только предательством можно купить себе жизнь. А предатель разве человек?!
Однажды, придя домой, Витя увидела, что Иван Харитонович возится с чем-то в спальне возле комода. На комоде мигала керосиновая лампа, окна были тщательно завешены одеялами. В руках Ивана блестело лезвие бритвы. Витя тихо подошла и, став на цыпочки, заглянула через плечо. Иван лезвием бритвы осторожно подчищал чей-то паспорт.
— Что ты делаешь?
— Сложную операцию, — шутливо ответил Иван. — Старую женщину превращаю в молодого человека. Вы, медики, еще не дошли до этого, а я вот пробую... Может, и получится...
— Нет, правда, что ты надумал?
— Видишь паспорт? Он принадлежал какой-то старухе. Я подчищу его и сделаю документ Михаилу Львовичу.
В те дни на квартире Марии Федоровны Калашниковой прятался ее знакомый Михаил Либантов, еврей. Он не пошел в гетто и хотел выбраться из города, чтобы как-нибудь попасть в партизанский отряд. Но с его документами невозможно было показываться на улице. Иван Козлов решил сделать ему паспорт на имя русского.
Витя долго любовалась ловкой работой Ивана Харитоновича. Лезвие незаметно, микрон за микроном, снимало с бумаги написанные тушью буквы. Никогда в жизни не видела Витя такого. Тушь словно таяла, не оставляя после себя следов.
— Ты чародей, Ваня! — восторженно проговорила она, глядя на тонкую работу художника.
Она знала Ивана Козлова как хорошего артиста, талантливого художника-карикатуриста. Но о том, что он умеет делать такие дела, не догадывалась.
На другой день Иван Харитонович показал ей паспорт. Со снимка смотрел Либантов. Печати, штампы и подписи были точно такие же, как и на другом паспорте, который взяли для образца у знакомого. Витя вертела в руках документ, разглядывала его на свет и не могла заметить подделки.
— Ты, Ваня, и не представляешь, как нам пригодится твое мастерство! — обрадовалась она.
— Представляю. Теперь ты дашь мне работу.
— Наверно, дам. Только посоветуюсь...
В больницу откуда-то из леса привезли на машинах много раненых. Витя заметила, как один мужчина с забинтованной выше локтя рукой нес на спине в палату товарища. Потом осторожно опустил на пол и отдышался. Тот, которого несли, тяжко стонал. Когда Витя подошла к ним, чтобы сделать перевязку, человек с забинтованной рукой многозначительно подмигнул ей и показал на своего товарища:
— Сначала, сестрица, его... а я и подождать могу.
Рана в плечо была не тяжелая. Стонать не было причины. Когда Витя наклонилась, чтобы лучше завязать бинт, раненый тихо сказал ей:
— Мой товарищ все объяснит. Дайте ему белый халат.
Витя вышла и принесла халат. Мужчина быстро надел его.
— Вы, видно, еще можете ходить, — обратилась она к более здоровому. — Помогите носить раненых.
Мужчина быстро вышел в коридор. Витя еле поспевала за ним. Оглянувшись, не следят ли за ними, он сказал ей:
— Мы в лесу попали в окружение, выхода не было. После боя гитлеровцы сгоняли раненых. Чтоб не попасть в лагерь пленных, мы тоже решили прикинуться ранеными. Теперь нам нужно как-то выбраться отсюда, достать документы и одежду. Помогите, пожалуйста.
Витя, не задумываясь, ответила:
— Сделаю. А пока что вам придется побыть здесь. Немцы нас еще не проверяли. А что вы могли бы делать в больнице?
— Все, что скажете. Здесь, я вижу, стёкла все выбиты, оформите меня стекольщиком.
— Хорошо. Это можно. Я попрошу врачей, и мы зачислим вас на работу как стекольщика. А документы вам и вашему другу я добуду. Во всяком случае, буду искать.
Так легко раненный Василий Соколов и совсем здоровый Григорий Бочаров неожиданно для себя получили надежду выбраться на волю.
Бочаров, которому Витя принесла добытый с огромным трудом алмаз, угольник и даже несколько целых стекол, ходил от окна к окну, переставляя одни и те же стекла с места на место. На него никто не обращал внимания — возится человек, что-то делает, ну и пусть себе делает.
А у Вити хлопот прибавилось. Нужно было раздобыть документы. Только как? И вдруг совсем неожиданное открытие: мастер документов рядом — Иван Харитонович!..
Он охотно согласился помочь Соколову и Бочарову. Каким-то образом разыскал старые паспорта и сделал из них совсем новые. Под видом санитаров Бочаров и Соколов пришли на квартиру Марии Федоровны Калашниковой. Здесь Иван Харитонович и вручил им право на постоянное жительство в Минске.
Несколько недель Бочаров и Соколов жили на квартире у Калашниковой. С помощью своих новых друзей наладили они связь с Бывалым, а потом и с другими подпольщиками.
Спустя некоторое время Витя сказала Ивану:
— Срочно нужно сделать пять паспортов и столько же аусвайсов. Сможешь?
— Если нужно, смогу. А кому это?
— Все равно ты их не знаешь. Военнопленные. Из нашей больницы. Они скоро поправятся, а документов никаких нет. Люди честные, надежные, воевать хотят. Партизанами могут стать.
— Таким я сделаю документы. Только где взять их фотокарточки и старые паспорта?
— Об этом мы позаботились. К тебе придет «Девочка». Это кличка Лиды Девочко, нашей знакомой. Помнишь ее?
— Помню.
— Так вот она принесет тебе чистые бланки паспортов. Нужно только заполнить их и поставить печати, подписи, штампы.
— Да-а! — задумчиво протянул Иван Харитонович. — Дело понятное. Только нужно где-то взять образцы этих штампов и подписей... Подожди, подожди... У меня есть идея! Мария Федоровна, прошу сюда на минутку!..
Мария Федоровна весь день если не ходила по городу, добывая еду, то копалась на огороде, выжимая из маленького клочка земли как можно больше картошки, огурцов, луку, свеклы и других овощей. Семья была не маленькая — пять своих хороших едоков да ежедневные голодные гости. Сколько их приходило сюда, ища приюта, спасения от опасности! Не отказать же хорошему человеку в ложке затирки. Иван знал заботливый характер, отзывчивость Марии Федоровны, видел, как она старается обеспечить семью питанием, и старался не беспокоить без надобности. А если позвал, значит, дело серьезное.
— Чем кончились поиски Ольги Александровны? — спросил он.
Ольга Александровна — пианистка, их старая знакомая. Во время бомбежки Минска погиб ее муж, под руинами дома задохнулся маленький сын. Откопали его уже мертвого. Тяжело переживала женщина свое горе. Только поддержка Калашниковой и Козлова облегчала моральные муки этой женщины.
Ольга Александровна долго искала работы.
— Она уже устроилась в городской управе, — сообщила Мария Федоровна. — Взяли ее потому, что хорошо знает немецкий язык.
— Чудесно... — потирая руки, прошелся Иван по комнате. — Это чудесно! Она и обеспечит нас подписями и печатями...
— Только согласится ли? — сомневалась Витя.
— А почему бы ей не согласиться? Разве фашисты ее осчастливили? Странно было бы, если бы она не помогла нам...
Назад: Эпиграф
Дальше: Часть вторая

