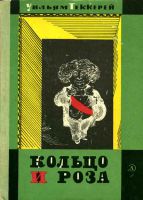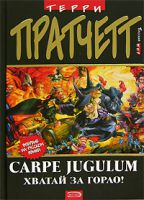XIV
Весна
В середине весны, то есть к концу апреля, склоны Карадага, Сюрю-Кая и Святой горы покрываются цветами горного тюльпана и мака, что радует и вдохновляет зрение. Цветение полыни, чебреца и лаванды наполняет воздух мимолетной, такой, увы, летучей и быстро пропадающей обонятельной поэзией. Не хочется пропустить ни мига из этой череды быстро проносящихся мигов цветения. Ночью – окна настежь, днем – блуждание по горам. «Я надеюсь, что после меня тысячи тысяч раз будет цвести этот склон, ведь вот после Макса чуть не полсотни раз цветет… – думал Арсений Николаевич. – Ну а когда земля начнет остывать, когда солнце начнет остывать, то по теории вероятности все равно где-нибудь во Вселенной возникнет точно такой же склон и на нем будут раз в год цвести тюльпаны и маки, лаванда, полынь и чебрец…» С улыбкой подумалось, конечно, что по теории вероятности может оказаться в тех неведомых глубинах и подобный старик среди подобного цветения, но улыбка эта была подавлена коротким смешком.
Между тем высокий старик в старом белом свитере из альпаки, в старых крепчайших ботинках, вполне еще ловкий и совершенно уже добрый и чистый, что в старости случается далеко не со всеми, вполне был достоин повторения в рамках теории вероятности.
В это утро спутником Арсения Николаевича по прогулке был другой старик, подполковник в отставке Марковского полка Филипп Степанович Боборыко, такой же, как и сам Арсений Николаевич, бывший юноша Ледяного похода. Филипп Степанович, в отличие от Арсения Николаевича, был рыхл и одышлив. Он и в отставку-то вышел в 1937 году по причине дурного здоровья, но с тех пор вот уж столько десятилетий тянул, бесконечно охая и скрипя, основал, развил и передал детям небольшой, но вполне солидный судоремонтный бизнес, объездил весь мир. Сейчас, охая и стеная, ругая Арсения Николаевича за то, что вовлек тот его в немыслимую «по нашим-то мафусаиловым годам» прогулку, подполковник Боборыко рассказывал о своем прошлогоднем путешествии в Москву и о наслаждении, которое он испытал на концерте церемониального оркестра Советской Армии.
– Арсюша, мон ами, поверь, это было шикарно, елочки точеные! Какой повеяло российской стариной! Тамбурмажор подбрасывал жезл, на задах стояли военные значки, штандарты сродни, знаешь ли, Семеновским и Преображенским. Все трубачи такие грудастые и усатые, вот она, имперская мощь, не чета нашим «форсиз», которые, ты уж извини меня, я знаю, что ты этого не любишь, но, согласись, с годами стали больше похожи на тель-авивских коммандос, чем на русскую армию, прости, Арсюша, похожи стали на этих дерзких жидков. А что они играют – ты не представляешь! «Морской король», «Тотлебен», «Славянку» и даже одну нашу, белую, ты себе не представляешь, Арсюша, они играли «Марш дроздовцев», конечно, без слов, но я пел, Арсюша, я пел, сидя в советском зале, пел и плакал…
Филипп Степанович слегка даже пробежался по горной тропе, воздвиг свое грузное тело на камень и, прижав руку к груди, спел не без вдохновения:
Шли дроздовцы твердым шагом,
Враг под натиском бежал,
И с трехцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал…
Затем последовала одышка и затяжной кашель со свистом, деликатное, в кустик, отхаркивание мокроты.
– Милый Боборыко, – сказал с улыбкой Арсений Николаевич (любопытно, что даже в юности у подполковника не было прозвища, сама его фамилия воспринималась как забавная кличка), – должен тебя огорчить: о «дроздовцах» эти твои трубачи даже и не слышали, а на дроздовский мотив они поют свое: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот». Согласись, в поэтическом отношении этот текст явно лучше нашего.
Филипп Степанович огорчился. С огорчением и очень серьезно он смотрел на Арсения Николаевича, и тот понимал, что церемониальный оркестр и марши – лишь повод для серьезного разговора, с которым Боборыко приехал в «Каховку».
Прошло уже около двух месяцев, с того момента как Временная Государственная Дума обратилась к Верховному Совету с просьбой о включении Крыма в Союз на правах шестнадцатой республики. Ответа до сих пор не было, не было никакой реакции из Москвы, словно все это была детская игра, словно и сам ОК не достоин внимания гигантской Евразии.
– И все-таки, Арсюша, в вооруженных силах там чтут российские традиции. Представь, отправился я в Лефортово искать свой кадетский корпус. Представь, сразу нашел. Все те же красные стены, белые колонны, вокруг почти ничего не изменилось, в здании помещается Артиллерийская академия, у входа дежурный офицер, стройный, перетянутый ремнями, наш, настоящий, Арсюша, русский офицер. Я обратился к нему и сказал, что учился здесь кадетом. Представь, никакой враждебности, представь, наоборот, дружелюбие, уважение…
– Что ты хочешь этим сказать, Боборыко? – мягко спросил Арсений Николаевич. – Говори наконец впрямую.
– Я хочу сказать, что в мире болтают о советском милитаризме, но ведь мы, русские, всегда любили войну, мы… – Филипп Степанович разволновался вконец, руки задрожали, дыхание сбилось.
– Давай присядем. – Арсений Николаевич посадил старого друга на нагретый солнцем камень. Огромная чаша Коктебельской бухты со всеми ее парусниками и мотоботами, ее небо с двумя-тремя геликоптерами, ее земля с уступчатыми домами и завитками фривея, с катящимися автомобилями в тишине лежала под ними. Здесь, на склоне, была тишина, только свиристела близкая птица да мощно пахли цветущие травы. – Ну, скажи наконец, Филя, скажи, спроси, – сказал Арсений Николаевич.
– Хорошо. – Филипп Степанович отдышался. – Арсюша, мы вымираем с каждым днем. Сколько осталось? И батальона не наберется. Арсюша, меня послали к тебе товарищи. Мы чувствуем, что они скоро придут. Ведь это же бесспорно, они придут. Мы и сами бы пришли на их месте, иного быть не может. Скажи, можем ли мы, последние добровольцы, смотреть на них как на нашу армию?
Арсений Николаевич не думал ни минуты.
– Нет, это не наша армия, – сказал он.
Теплым майским вечером на открытой веранде литературного ресторана «Набоков» Антон Лучников играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыканта – Джей, дай мне твою дудку ненадолго, хочу для жены немного поиграть, она у меня очень беременная. Все тут были свои, все друзья, все яки, и, конечно, знаменитый саксофонист Джейкоб Бриль не отказал Тони, дал свое золотое сокровище, только попросил слюни не пускать. Кумир подземной пересадки на станции метро «Шатле» заиграл в стиле ретро мелодию «Сентиментальное путешествие». Он думал, что всех поразит этой древностью, которую недавно выудил в отцовских архивах, но оказалось – все эту штучку знают, вся публика в «Набокове», не говоря уже о музыкантах, которые тут же к нему подстроились и только лишь слегка улыбались, когда он пускал «фиксу». Певица же оркестра, длинноногая черная Заира, обтянутая черным платьем и вся целиком напоминающая стройную изгибающуюся ногу, встала рядом с Тони и запела:
Gonna make a sentimental journey
To renew old memory…
Антон играл, глядя на жену влюбленными глазами. Со дня на день она родит. У меня будет ребеночек, сын или дочь, еще одно родное существо появится в мире. Мать ушла, но придет ребенок, он заполнит то, что называется гнусным словом «пустота», черную дыру в пространстве, образовавшуюся с уходом матери. После недавней смерти матери он почувствовал, что изменился, может быть, повзрослел, может быть, это называется каким-нибудь другим словом, но изменился решительным образом. У каждого человека свой космос, но в моем слишком просторно, слишком много пустот… Мать ушла, а отец и не знает об этом, орбита его удаляется, он кружит в холодных кольцах своей подлой славы, все дальше и дальше отлетает от меня… и от деда… Счастье, что в мир мой вошла такая горячая Памела… Вот она сидит в своем африканском широченном бурнусе, но пузо все равно видно, не спрячешь, там мое дитя…
Черная, тоненькая, дочь татарина и негритянки Заира, поводя плечами и бедрами, будто старалась вылезти из своего чулка. Оживи мою короткую память… Когда я увидел двух американочек на торговой улочке Стамбула, разве я думал, что одна из них станет моей женой? Кажется, это дед виноват, – кажется, это он сказал – вот твоя жена, Антошка! Отец этого не сказал, может быть, он только подумал об этом, помнится, он бросил на нас в «Калипсо» какой-то странный взгляд, но не сказал ничего. Ему не до этого. Исторический деятель… Экий вздор вся эта история, вся эта политика. Если бы я мог играть на саксе, как Бриль!
Он кончил играть и с церемонным поклоном вернул инструмент хозяину.
– Ты можешь хорошо играть, – серьезно сказал Бриль. – Хочешь, позанимаюсь с тобой?
– Очень хочу, Джей, – сказал Антон. – Готов хоть завтра начать.
– Давай поиграем, пока красные не пришли, – сказал Джей Бриль.
– На саксофоне сейчас и у них можно играть, – сказал Антон. – Меня как раз там и научили. Некий Дим Шебеко.
– Ага, – уважительно кивнул Бриль. – Знаю.
Антон вернулся к своему столу, где золотой богиней восседала Памела, а рядом с ней ближайший друг, третий призер Антика-ралли Маста Фа и несколько еще парней и девушек из первого национального конгресса яки, который, едва возникнув, тут же и рассыпался на множество групп, группочек и отдельных личностей. К сожалению, отец прав, думал Антон: яки-идея возникла преждевременно, ей нужно еще не менее одного поколения. Быть может, вот тот, кто сидит сейчас в Памеле и так колоссально растянул ее матку, может быть, этот типус и смог бы стать настоящим яки, если бы… если бы не… если бы не было сейчас такой грустной и чудной весны, если бы мы все, весь наш Остров, со всеми его скалами и бухтами, не был зачарован ожиданием неизбежного, загипнотизирован таинственным северным молчанием. А впрочем, какое все это имеет значение, никогда я не пойду по пути своего папочки, никогда не позволю поработить себя никакой политической идее, любая из них мерзее другой, хватит с меня этого дурмана, лучше на саксофоне буду играть, лучше уеду с Памелой к ней в Малибу, забуду о том, что я русский, что я яки, забуду об Острове Крым, довольно… Вновь и вновь в памяти его вставал дряхлый дворец на окраине Рима, отставшие от стен обои, выскакивающие при каждом шаге плитки паркета, запах распада, неотвратимой беды… Он тряхнул головой, поймав на себе беспокойный взгляд Памелы.
– Ну, – улыбнулся он жене. – Как я играл, бэби?
– Совсем неплохо, – улыбнулась она. – Я думала всегда, что ты врешь про саксофон, а ты, оказывается, и действительно немножечко умеешь.
– Бриль будет заниматься со мной, – сказал Антон. – Через год заиграю, как он.
– Браво! – Памела погладила его по голове. Чем больше рос у нее живот, тем более по-матерински она относилась и к мужу своему, русскому мальчишке. – Завтра же напишу маме в Малибу, что ошиблась – выходила замуж за будущего премьера, а он оказался просто саксофонистом.
– Ебал я всех премьеров, – пробормотал смущенно Антон. – Джаз – вот независимая страна, ни с какой политической падлой никогда не смешается.
– Какой ты стал аполитичный, – ядовито заметил Маста Фа. – Тони, ты вернулся из Италии другим человеком. Может быть, «красные бригадисты» тебя запугали?
Все расхохотались, кроме Антона и Памелы. Он никому не рассказывал, для чего ездил в Италию, никому, кроме Памелы, и никому никогда не расскажет: нечего им знать о горшках с черной рвотой, о трещинах в стенах так называемого дворца, о последних хрипах матери, о ее глазах, замутненных наркотиками, об одинокой его молитве, которая обернулась судорогой, никому он не расскажет об этом, кроме Памелы, которой уже все рассказал, никому, даже отцу, прежде всего – никогда – отцу. Он ничего не ответил Маста Фе и отвел глаза. Получается, что у меня совсем нет друзей. Маста Фа – лишь политический союзник, он не друг, если я не могу ему рассказать обо всем этом. Дед Арсений на своей горе… Могу я ему рассказать? Это еще вопрос… Впрочем, дед Арсений – мой друг. Вот ему я расскажу все о матери, об этом ужасном дворце, где она провела свои последние дни… Завтра же отправимся с Пам в Коктебель…
– Ну? – настойчиво сверлил его взглядом яростный Маста Фа. – Перед бригадистами там обосрался?
– Ебал я «Красную бригаду», – неохотно проговорил Антон, выпил рюмку коньяку и поспешно закурил.
– Обосрался! – крикнул Маста Фа. – Мы все обосрались! Мы все оказались дерьмом! Мы не яки, а говно!
Еще после участия в Антика-ралли бахчисарайская аристократия отлучила юношу от дома. Мусульманин не должен принимать участия в варварских забавах гяуров. Затем и отец, богатейший плантатор, выгнал сына: иди к своим русским! Теперь Маста Фа собирался и сам послать всех подальше: оскорбленная душа жаждала одиночества.
Все за столом после слов темпераментного гонщика зашумели. Маста Фе удалось добиться своего: все забыли про джаз и про очарование поздней весны, про все свои сердечные дела и про марихуану, снова бессмысленно закружилась по столу безнадежная яки-проблема. Антон, хотя и слово себе дал не ввязываться, через минуту уже перегибался через стол, отмахивал волосы, стучал кулаком, безобразно, в худшем русском стиле, оппонировал другу, едва ли не рыдал.
– Да ты пойми, да вы поймите, ты, парень, вы, ребята, поймите, нет у нас еще нации, хоть плачь, но нету! Вы же видели, как проваливались все наши митинги, за исключением тех, где надо было кулаками работать; все наши дискуссии оборачивались комедией, а над своим языком мы сами смеялись!
Маста Фа в ответ тоже вскочил и перехватил раскачивающуюся над столом длинную руку.
– Это вы, русские, смеялись, а другие не смеялись! Вы русские – мазохисты! Вас Золотая Орда триста лет употребляла, а вы только попердывали! Вас Сталин сорок лет ебал, а вы его отцом народов называли. Вы, русские, сейчас весь наш Остров жопой к красным поворачиваете, напрашиваетесь на очередную выебку. Кончено! Катитесь вы, проклятые русские!
Отшвырнув тяжелое кресло, Маста Фа перепрыгнул через перила веранды прямо на мостовую. Через несколько секунд зеленая его «Бахчи-мазаратти», рявкая, отвалила от ресторана «Набоков» и исчезла.
– Ну вот вам и яки, – печально развел руками Антон. – Вот вам на поверку и вся наша «нация». Вы – русские! При чем тут русские? В конце концов, почему я – русский? Я с таким же успехом и итальянец.
– Вы итальянец? – спросила, подходя, Заира. – Такой блондинчик?
– По-вашему, все итальянцы черны как сажа? – надменно возвышаясь над своим животом, обратилась к ней Памела. Она чувствовала, куда клонит певичка, – при беременной жене уволочь на ночку мальчика.
– Ну, вот уже и цвет волос, цвет кожи, примитивнейший расизм, – уныло проговорил Антон. Он был удручен внезапной злобной вспышкой Маста Фы. – Друзья, – сказал он, – мы ссоримся по пустякам, а на самом-то деле думаем об одном – придут ли красные?
– Не сомневайтесь, придут, – сказал кто-то с дальнего конца стола.
Сказано это было по-русски, но Антону показалось, что с советской интонацией, да-да, определенно, кто-то советский высказался. В конце стола на углу бочком сидел маленький, заросший бороденкой по глаза молодой человек в солдатской рубашке, расшитой лилиями, мода советских хиппи.
– Вы, кажется, из России? – спросил Антон.
– Сейчас из России, – загадочно ответил малыш.
Антон повернулся к друзьям и продолжил свою мысль:
– Придут или не придут красные, долг крымской молодежи – продолжать процесс формирования новой нации Надо перенести семя яки через поколение. Нужно организовать многонациональные земледельческие коммуны, работать над языком, над новой культурой…
Говоря это, он чувствовал на себе усмешливый взгляд малыша. Резко повернул голову – так и есть: смеется.
– Какого черта вы смеетесь?
– Хотел бы я посмотреть на ваши многонациональные коммуны в Крымской АССР, – сказал малыш. – У вас никто до конца не понимает большевизма. Даже вы, яки, противники воссоединения. Даже вы, ребята, не понимаете, что вас очень быстро тут всех раскассируют…
– Кто вы такой? Вы из Москвы? – спросили малыша.
– Неделю как оттуда, – ответил он.
– Турист? Однако туризм прекращен сразу после призыва Думы. Еврейский эмигрант? Они сюда не едут…
– Я просто беглец, – скромно сказал малыш.
– За столом расхохотались – нашел куда бежать!
– Мне все равно, куда бежать, – пояснил малыш. – Я могу убежать откуда угодно и куда угодно.
– Новый Гудини, – сказал Антон.
– Между прочим, что-то в этом роде, – очень просто, без всякой амбиции сказал малыш. – Мое имя Бенджамен Иванов, или Бен-Иван, как зовут меня друзья. Я эзотерический человек. С каждым годом обнаруживаю в себе все новые и новые признаки свободы. Вы можете спросить, Тони, у вашего отца. Прошлым летом мы пересекли с ним вместе советско-финскую границу. Мне удалось тогда «вырубить» целую заставу, на солидном расстоянии спутать показания локатора.
– Так это были вы? – поразился Антон.
– К вашим услугам, – поклонился Бен-Иван, встал, подошел к перилам веранды клуба «Набоков» и вдруг исчез в подступающих вплотную к веранде ветвях платана.
Антон тряхнул головой. Бен-Иван уже снова сидел за столом и ободряюще ему улыбался.
Заира приблизила к уху Антона мягкие темные губы. Может быть, потанцуем, секси-бой?
– Секси-бой потанцует со мной, – сердито сказала Памела, неизвестно каким образом услышавшая эту даже и не произнесенную фразу. – А вы, детка, – обратилась она вполне, впрочем, миролюбиво к Заире, – были бы очень любезны, если бы спели еще раз «Сентиментальное путешествие».
Заира была покладистой бабой и тут же опять отправилась к эстраде. По дороге она подцепила вновь прибывшего эзотерического человека. Тот оказался к тому же с тромбоном и очень профессионально солировал поочередно с Заирой и улыбался ей вполне по-свойски и даже иногда притрагивался своим твердым передком к ее пружинистому задку. Все танцевали на веранде, и все улыбались друг другу. Антон прижимал к себе огромный живот жены, и ему казалось, что сердцебиение плода совпадает с его собственным пульсом. Он видел вокруг лица друзей, несостоявшуюся новую нацию Острова Крым, такие красивые яки – хей, челло, где вы еще найдете такую красивую молодежь? Все танцевали под мелодию четвертьвековой давности, и все улыбались. Сладкое облачко марихуаны витало над верандой. В небе растворялось закатное золото и висел для красоты рой безобидной майской мошкары. За хрустальным стеклом виден был внутренний зал ресторана «Набоков», еще недавно там чуть ли не каждый вечер проходили приемы в честь очередного заезжего эмигранта. Теперь элегантная публика передвигалась с бокальчиками мартини вполне бессмысленно. Кое-где были видны хохочущие рты, кое-где насупленные брови пророков, кривые рты пьянчуг, подержанные дамочки проносили высоко поднятые и на всякий случай чуть-чуть оскорбленные подбородки, а с дубовых панелей взирали на толпу портреты Тургенева, Мережковского, Бунина, Ахматовой, Бродского, Вознесенского, Ахмадулиной и множества других. «Писатели – верные помощники партии», – вспомнил Антон поразивший его лозунг в московском клубе ЦДЛ. Сейчас все казалось призрачным, все подернуто дымкой. Слабый привычный наркотик на этот раз будто бы отодвинул куда-то вглубь весь клуб «Набоков» и веранду с танцующей молодежью и придал всему какой-то смутный несмысл. Впрочем, ощущение это было мимолетным, оно пропало так же, как и появилось, – внезапно, и в это время поворот танца открыл перед ним прореху в шеренге платанов и в прорехе той – огромное золотое небо крымской ночи, панораму Симфи с ее кубами, шпилями, шарами, квадратами и уступами, россыпь огней на фоне золотого неба и торчащий прямо посредине карандаш «Курьера». Верхний его конец сверкал ярким светом, будто маяк. Там был в этот момент его отец. Он поддерживал там уже бессмысленный огонь; маяк в ослепительной золотой ночи, где все было видно и ясно далеко вперед.
Вторжение началось именно в эту ночь, но по традиции все-таки в темноте: одна заря еще не успела сменить другую, и в этих коротких сумерках налетел на Симфи свист бесчисленных турбин.
Председатель совета СОСа, издатель и редактор «Русского Курьера» Андрей Лучников, услышав этот свист, понял: свершилось.
Он выключил весь свет в башне, и одноклассники увидели с большой высоты своего небоскреба бесчисленные огни над Симфи. Это кружили в ожидании очереди на посадку гигантские десантные «Антеи».
Ти-Ви-Миг, как всегда, оказался на месте. На экране «ящика» уже можно было видеть пасть десантной рыбины, откуда один за другим выезжали набитые «голубыми беретами» джипы. Передача, правда, почему-то внезапно прервалась, когда несколько «голубых беретов» побежали прямо на камеру, на ходу поднимая приклады.
– Ну вот видите, – спокойно сказал Беклемишев. – Они снова обманули. Они не могут не врать.
– Кто они? – закричал Лучников. – Я не с солдафонами разговаривал! Я с Госпланом разговаривал! С Комэконом и с Госпланом. Они вполне могли и не знать, что готовится.
Третьего дня в башне «Курьера», а затем и в правительственном квартале начались радостные события. Москва прервала трехмесячное зловещее молчание, на связь с Лучниковым стали выходить видные деятели Госплана, а затем и Совета Экономической Взаимопомощи. Есть, дескать, мнение, что пришла пора начать координацию экономики. Лучников, ликуя, переадресовывал московских товарищей к соответствующим симферопольским правительственным, коммерческим, финансовым органам. Из всего этого следовало, как решили одноклассники, что в Москве торжествуют «прагматики», что там решено объединение провести поэтапно, тактично и, уж во всяком случае, без вторжения, ведь в самом деле, что же за нелепость – вторжение в страну, добровольно присоединившуюся. Не Прибалтика ведь.
Итак, все стало поворачиваться, казалось бы, в благоприятную сторону, за исключением, впрочем, череды золотых закатов над всей территорией Острова, этого золотого и слегка зеленоватого свечения, которое вселяло почему-то все большую тревогу и заставляло одноклассников торчать по ночам в башне «Курьера» и мешало почему-то им разлучаться.
Замигал индикатор видеофона. На экране появился полковник Чернок. На голове у него был шлемофон. Он говорил очень тихо, но вполне внятно:
– Со всех сторон к берегам подходят десантные суда, на пляжи высаживаются танковые колонны, в бухты – морская пехота, применяются судна на воздушной подушке. Аэропорт Симфи наводнен «Антеями». Радарные системы оповещают о приближающемся соединении истребительной авиации. Предполагаю, что речь идет о блокаде наших баз.
– Саша, для чего им блокировать наши базы? – вскричал Мешков. – Разве они не понимают, что это их базы?
Лучников положил руку на плечо дрожащему Мешкову, сказал Черноку:
– Попробуй напрямую запросить Генштаб о причинах вторжения.
– Это не вторжение, – улыбнулся Чернок.
– Что же?! – вскричал потерявший весь свой юмор Сабашников.
– Включи московский канал ТВ, – сказал Чернок.
Фофанов повернул ручку телевизора на московский канал. Там в этот глухой час вместо цветной сетки сидел скуластый диктор Арбенин в диком пиджаке и умиротворяющим монотонным голосом читал какое-то сообщение ТАСС. Судя по тону, сообщение было средней важности, более серьезное, чем сводка ЦСУ, но, конечно, не столь существенное, как речь товарища Капитонова на собрании по поводу вручения ордена Октябрьской Революции городу Кинешме.
– Как известно (хотя, казалось бы, откуда известно, если ничего по этому поводу населению не сообщалось)… широкие слои населения исконной российской территории (нет-нет, никакой Государственной Думы, ее вовсе не существует)… Восточного Средиземноморья (даже в таком сообщении не употребить заколдованного слова «Крым», это уж слишком)… обратились к Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик с просьбой о включении в состав одной из союзных республик (опять лжица, опять подляночка – не так ведь обратились, не так звучала просьба). Вчера на заседании Президиума Верховного Совета СССР просьба эта была в принципе удовлетворена. Теперь она подлежит утверждению на очередной сессии Верховного Совета.
В ознаменование воссоединения народов Восточного Средиземноморья с нашим великим социалистическим содружеством Комитет физкультуры и спорта при Совете Министров СССР совместно с Министерством обороны СССР и ДОСААФ решили провести в секторе Черного моря военно-спортивный праздник под общим названием «Весна». Проведение праздника назначено на (вчерашнее число мая)… Репортажи о ходе праздника будут периодически транслироваться по второй программе Центрального телевидения.
– Достаточно, – сказал со своего экрана Чернок. – Выключайте.
Члены совета увидели, как дежурный офицер протянул Черноку радиограмму. Полковник снова улыбнулся, на этот раз слегка саркастически.
– Американцы любезно сообщают, что из Одессы к нашим берегам вышла эскадра во главе с авианосцем «Киев», а из Новороссийска эскадра во главе с авианосцем «Минск»…
– Наши данные подтверждаются, – вставил невозмутимый Востоков.
– Пока, ребята, – сказал Чернок. – Я поднимаюсь на вертолете. Насколько понимаю, я уже не командующий. Позволю себе просто удовлетворить любопытство. Мне интересно, как это у них поставлено.
Видеофон погас, и почти в тот же миг все увидели приближающийся к башне «Курьера» большой зеленый вертолет с советскими опознавательными знаками. Он завис в непосредственной близости от стеклянных стен лучниковского шалаша. В открытых его дверях столпились, внимательно вглядываясь в рефлектирующие стекла, десантники.
– Это по нашу душу, Востоков? – спросил Лучников осваговца. Тот молчал. – Где Сергеев? Когда нас должны взять? – спросил Лучников. Востоков молчал.
На вертолете зажегся мощный прожектор. Через мгновение луч его уперся в наконечник башни «Курьера» и ослепил всех. Несколько мгновений они чувствовали себя козявками под микроскопом, как вдруг сверху донеслась автоматная очередь, и все увидели на одном из уровней «вигвама» Кристину Паролей с оружием в руках. Вертолет немедленно погасил огни и стал удаляться.
– Вы что же, Андрей, собираетесь защищаться? – с кривой улыбкой спросил Востоков. – Наподобие Сальвадоре Альенде?
– Брось оружие! – злобно крикнул Лучников Кристине. Та немедленно выполнила приказ. – Как ты смела стрелять?
Она села на пол и уткнула голову в колени.
– Что же прикажете делать? – спросил всех Сабашников. Его нельзя было узнать, трудно было предположить, что он и в этот момент играет. – Как дубчековской компании сидеть и ждать особистов?
Наступила долгая пауза, которую в конце концов прервал Лучников.
– Петяша прав, – сказал он. – Пусть хоть потрудятся товарищи. Пусть поищут. А мы пока покатаемся по своей земле на прощание.
Все молча встали. Через несколько минут из подземного гаража «Курьера» без особой спешки, с сохранением полного достоинства стали разъезжаться машины одноклассников – «Руссо-Балт» Мешкова, «БМВ» Беклемишева, «Мерседес» Фофанова, «Ягуар» Сабашникова, машины Нулина, Каретникова, Деникина… и, наконец, знаменитый «Питер-турбо» лидера национальной идеи Лучникова.
– В следующий раз встретимся, должно быть, в Потьме на стекольном заводе, – сказал на прощание Сабаша и тут уж все-таки не удержался, изобразил «декабриста», а потом, чуть не заплакав, рассмеялся. – Странная связь со стеклом…
С каждой минутой становилось светлее, и в тот момент, когда в небе появилось созвездие целого вертолетного соединения, задержавшийся Востоков заметил приближающуюся фигуру полковника Сергеева. На этот раз тот был в своей полной форме, которая, надо сказать, выглядела на нем довольно дико.
– Разъехались? – еще издали и негромко спросил он Востокова.
Звук приближающихся вертолетов был пока еще подобен жужжанию шмелей, и потому негромкий голос Сергеева прозвучал гулко и отчетливо на площади, выложенной цветной плиткой, с кинетической и в этот утренний час едва колышащейся скульптурой.
Востоков сидел как раз у подножия этой скульптуры, олицетворяющей, по мысли ее творца, «Стойкость хрупкого». Закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, он смотрел на приближающегося Сергеева. «Любопытно, сам он меня застрелит или прикажет вертолетной сволочи», – думал он. Сергеев подошел вплотную.
– Почему не задержали? У вас ведь был приказ. – В голосе Сергеева тоже слышалось нескрываемое любопытство, и Востоков подумал, что это свойство не покидает людей их профессии, пожалуй, даже в самые критические минуты.
– Как думаете, почему? – надменно спросил он Сергеева. – Не догадываетесь?
– Молодец, Востоков, – вдруг сказал московский полковник, сделал было движение, чтобы хлопнуть коллегу по плечу, но почему-то не решился. – Я в тебе не ошибся, Востоков. Бери-ка свою тачку и испаряйся, пока не поздно. Лучший выход для тебя – испариться.
– Даже если бы я и выполнил приказ? – вновь Востоков дал волю своему неистребимому любопытству.
– В этом случае – тем более, – сказал Сергеев.
– Яки, – сказал полковник Востоков. – Я тоже в вас не ошибся, Сергеев.
За несколько минут до того, как из вертолета посыпались отборные молодчики спецгруппы ГБ, темно-вишневый «Фольксваген» Востокова успел завернуть за угол «Курьера», а потом нырнул в ближайший тоннельчик Подземного узла.
Дока по таким делам, офицер-азербайджанец был основательно разочарован – чехословацкий вариант, когда он, азербайджанец, построил все правительство вдоль стенки с поднятыми руками, сорвался; здесь, в Симферополе, товарищи оказались не столь сознательные.
На больших высотах небоскребов вдоль бульвара 20 января с первыми лучами солнца появились красные и трехцветные флаги. Чем выше поднималось солнце, тем гуще становилась толпа на широченных тротуарах главного бульвара Симфи. На несколько часов раньше обычного открылись все кафе и бары-экспрессо. Царило радостное возбуждение. Молодежь развешивала по ветвям платанов лозунги типа: «Привет, Москва!», «Советский Остров приветствует советский материк!», «Крым + Кремль = Любовь!» и самый оригинальный: «Пусть вечно цветет нерушимая дружба народов СССР!» Автомобильные реки еле-еле текли в обоих направлениях вдоль бульвара. Полиция сбилась с ног, стараясь очистить главную улицу столицы для церемониального прохода частей родной Советской Армии. До восьми утра, однако, в центре не было видно ни одного советского солдата. Огромные экраны в барах и транзисторные телевизоры в руках публики показывают репортажи Ти-Ви-Мига из различных пунктов побережья. Ти-Ви-Миг на сей раз почему-то оказался далеко не в лучшем своем качестве; передачи были сбивчивые, внезапно прерывались, но и по ним можно было судить о грандиозных масштабах военно-спортивного праздника. Все-таки, видимо, развязные телемолодчики раздражали скромных советских парней, лица скромняг мрачнели при приближении машин Ти-Ви-Мига, и передачи почему-то прекращались. Московский канал между тем передавал вчерашний выпуск программы «Время», материалы о ходе весенних посевных работ, выступление временного поверенного Республики Мозамбик в связи с национальным праздником, вручение наград ветеранам угольной промышленности… Публика на Январском бульваре начала пить шампанское, настроение все повышалось: ничего, ничего, скоро все наладится, к черту телевидение, сами скоро все увидим своими глазами, вы слышали, говорят, к вечеру прилетит Брежнев.
Вдруг в начале бульвара жутко взвыли сирены, и невероятно мощный и явно советский голос стал повторять одну и ту же фразу:
– Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть! Машинам и пешеходам немедленно очистить проезжую часть!..
Столичная полиция взялась разгонять автомобили, заталкивала их под платаны, на тротуары и чуть ли не в подъезды домов.
Наконец по бульвару на большой скорости пронеслись полдюжины броневиков-амфибий с горящими фарами и воющими сиренами. Из-за брони видны были только голубые береты, скособоченные на бритых затылках.
Восторженные крики населения не достигли ушей куда-то чрезвычайно спешащих солдат. В кафе «Марсово Поле» некий иностранец предположил, что подразделение мчалось «брать» Совет Министров. Его подняли на смех. Через несколько минут на экране в кафе, правда, и в самом деле появилась сводка Ти-Ви-Мига с Сенатской площади, где стильно светилась колоннада Совета Министров и куда ворвалась броневая кавалькада. Передача вновь как-то внезапно и нелепо оборвалась. Ти-Ви-Миг, по северному выражению, в этот день был явно не на высоте.
Между тем в одной из автомобильных пробок на площади Барона стоял «Питер-турбо» крымского чемпиона. В обычное время он оказался бы, конечно, в центре внимания, сейчас все пассажиры и водители высовывались из машин, стараясь не пропустить появления головных церемониальных советских колонн.
Кристина вдруг потеряла свой образ гибкой и почти немой любовницы-телохранительницы, которая сопровождала лидера идеи все эти месяцы. У нее было разбухшее от слез лицо и страх в глазах.
– Андрей, прошу тебя, умоляю, бросим немедленно эту машину, – повторяла она. – Эту твою ебаную машину все знают. Тебя сейчас возьмут. Надень парик, и бежим. Тебя могут каждую минуту взять эти ебаные «комми»…
– Я ни от кого не скрываюсь, – надменно отвечал Лучников. Известная всем телевизионная его улыбка не сходила с его лица. Черный свитер, ворот голубой рубашки, сигариллос в углу рта – прежний рекламный облик. – Если предъявят ордер на арест, подчинюсь. Захотят взять нахрапом, окажу сопротивление.
Она вдруг взорвалась неудержимыми рыданиями. Он обозлился – какой тряпкой оказалась эта «железная девочка». Танька никогда бы не унизилась до таких соплей. Он сам еле справлялся с внутренней дрожью, и злость на Кристину помогла ему. Он даже взял ее слегка за горло и тряхнул:
– Вытри сопли, говно!
– Подумай обо мне, – рыдала уже во весь голос Кристина. – Что я буду делать без тебя? Бежим, Андрей! Ну, подумай хоть раз о ком-нибудь другом! Хоть на миг подумай обо мне, подумай о другой душе, хуесос, подумай не о себе…
– Сука, ты меня полагаешь самоманьяком? – зарычал он. – По-твоему, это я для себя все сделал, весь этот ад для себя сотворил?
Между тем в «аду» этом гремели оркестры и музыка из динамиков, реяли флаги всех политических партий Крыма и красные флаги СССР, мелькали смеющиеся лица. Впереди у скульптуры Барона началось какое-то движение: приехало несколько фургонов полиции и платформы Ти-Ви-Мига.
Лучников наклонил голову и сжал ладонями виски, нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы разогнать спускающуюся ему на голову тучу мрака. В самом деле, быть может, Кристи и права по-своему, по-бабски. Она напомнила об отце, о котором я забыл, о сыне, о котором я забыл, о внуке, который может появиться со дня на день и о котором я уже забыл, она напоминает о себе, о которой я никогда и не помнил. Я даже Таньку-то свою забыл, забыл еще тогда, в Москве, поэтому она и ушла, даже свою единственную женщину забыл и наплевал на нее, а уж эту-то, Кристи, я никогда и не помнил. Прости меня, господи, я расплачусь за эту черствость, но ведь и она не права, не о себе же я все это время думал, о России, о верховном ее пути, о Твоем пути, об искуплении…
Сегодня, когда они покинули здание «Курьера», Кристина напомнила ему об отце, и он из первой же телефонной будки позвонил в «Каховку». Там ответил новый библиотекарь, бывший премьер Кублицкий-Пиоттух. Он поведал, что Арсений Николаевич среди ночи, никому ничего не сказав, с одним лишь своим верным Хуа укатил на «Роллс-Ройсе» в Симферополь, и он, Кублицкий-Пиоттух, не может не связать этот отъезд с общими событиями, о которых Андрею Арсеньевичу, естественно, известно лучше других, и хотя он лично, Кублицкий-Пиоттух, не может не быть ему благодарен за то, что вовремя покинул никчемное правительственное учреждение, но тем не менее он не может не выразить ему своего недо…
На симферопольской квартире в телефонную трубку рыдал одинокий Хуа. Андрюса, что-то ужас слюшилось… Арсюса усел из дом в старой синель и взял из подвал свой рзавий руззие…
Теперь в автомобильной пробке на площади Барона Лучников не знал ничего ни об отце, ни о сыне. Вдруг он подумал, что без них ему свет не будет мил. Не будет мил ему свет и без снохи – золотой Памелы, и без будущего внука, и без Танькиного Саши, и без самой Таньки, и без этой бабы, которая, оказывается, так его любит. Вдруг в этот момент вся история, философия и политика сгорели, словно куча старых газет, и он ощутил себя лишь мешком протоплазмы, жалкой живой сферой, вместилищем чего-то дрожащего, жаждущего защиты. Так уже было с ним однажды после финиша Антика-ралли.
– Внимание! – снова послышался над огромной площадью могучий радиоголос. – Всем на бульваре Января, на Синопском бульваре и на Преображенской! Немедленно очистить проезжую часть для проходящих колонн.
Приказ этот не относился к площади Барона, да все равно его и выполнить было невозможно.
Лучников сдвинул крышу назад и встал в машине. Он увидел приближающуюся по Синопскому бульвару первую колонну танков с поднятыми вверх стволами пушек и зажженными фарами.
Несколько камераменов Ти-Ви-Мига, в их серебряных куртках, с аппаратами на плечах, бежали почему-то не к танкам, а к статуе Барона. Что там происходит? Крыши автобусов, полицейских фургонов и сам Ти-Ви-Миг закрывали поле зрения.
– Что там происходит? Что там? – спросил он в пустоту.
Кристина сидела теперь, не двигаясь, надвинув мужскую шляпу, закрыв глаза черными очками, а нос и рот завязав цветным платком.
– Взгляните на экран, господин Лучников, – услышал он рядом вполне любезный голос. В «Кадиллаке» по соседству тоже была сдвинута крыша, и владелец, по внешности биржевой брокер, любезно показывал ему на экран своего внутреннего телевизора. – Происходит историческое событие, господин Лучников. То, чего большевики ждали шестьдесят лет. Окончательная капитуляция Добровольческой армии.
Лучников вздрогнул от ужаса. На экране все было видно отчетливо. У подножия статуи Барона стояло каре – несколько сот стариков, пожалуй, почти батальон, в расползающихся от ветхости длинных шинелях, с клиновидными нашивками Добровольческой армии на рукавах, с покоробившимися погонами на плечах. В руках у каждого из стариков, или, пожалуй, даже старцев, было оружие – трехлинейки, кавалерийские ржавые карабины, маузеры или просто шашки. Камеры Ти-Ви-Мига панорамировали трясущееся войско или укрупняли отдельные лица, покрытые старческой пигментацией, с паучками склеротических вен, с замутненными или, напротив, стеклянно просветленными глазами над многоярусными подглазниками… Сгорбленные фигуры, отвисшие животы, скрюченные артритом конечности… несколько фигур явилось в строй на инвалидных колясках.
– Что за вздор, господин Лучников? – спросил владелец «Кадиллака». – Вы не можете объяснить мне смысл этого фарса?
Камеры скользили по каре старцев, и у Лучникова вдруг возникло некое особое ощущение: это и в самом деле была армия, а развалины эти были воинами, и весь урон, который принесло время их телам и амуниции, только подчеркивал почему-то это ощущение «войска». Через минуту Лучников увидел того, кого и не сомневался увидеть в этом каре, – своего отца. Арсений Николаевич стоял в первом ряду, где заняли места самые сохранившиеся, самые бравые. Иные из них выпячивали груди с крестами и медалями, красуясь и бодрясь вполне по-дурацки. Лучников-старший в полковничьих погонах на своей юнкерской шинели просто стоял, опершись на винтовку, в той позе, в какой, наверное, они, мальчишки, и стояли в перерывах между атаками на Каховку. Странно было видеть рядом с ним репортера Ти-Ви-Мига в его серебряной куртке с фирменной эмблемой на спине. В глубине кадра над морем голов, цветов, флагов и лозунгов светились фары медленно приближающейся танковой колонны.
– Президиум Союза Белого Воина, как известно, отверг решение Временной Государственной Думы, – слышался спокойный голос отца. – Находящееся здесь подразделение Вооруженных Сил Юга России, верное присяге, противостоит вторгшейся армии красных.
– Однако, профессор… – Репортер показал камере свое ухмыляющееся лицо.
– Полковник, – мягко поправил Арсений Николаевич.
– Простите, полковник, но ведь Генштаб и весь личный состав наших «форсиз» приветствуют слияние с героической армией великого Советского Союза…
– Мы вам не «форсиз»! – рявкнул стоящий рядом с Арсением Николаевичем грудастый старик. – Мы – добровольцы! Русская армия!
– Русская армия собирается драться? – спросил репортер.
– Мы собираемся капитулировать, – сказал Арсений Николаевич. – Добровольческая армия капитулирует перед превосходящими силами неприятеля. – Он усмехнулся. – Согласитесь, слово «капитуляция» звучит более нормально, чем…
Сверхмощный радиоголос заглушил «ненормальное» слово:
– Немедленно освободить проезжую часть! Через пять минут начнется прохождение танковых колонн!
Сотни, тысячи машин, стоящих вплотную, отделяли Андрея от Арсения. Никак не пробраться к отцу, никак уже его не спасти. Началось хаотическое движение, в котором среди базарной разноголосицы послышалось четко:
– Равняйсь! Смирно! Шагом арш!..
Каре подобралось и медленно двинулось вперед. В последний раз Андрей Лучников увидел своего отца, когда тот довольно энергичным движением отодвинул от себя серебряную куртку Ти-Ви-Мига.
Теперь съемка шла с верхней точки, и неожиданно оказалось, что между головными танками и батальоном стариков есть некое асфальтовое озеро, вполне пригодное для исторической процедуры капитуляции. Быть может, сами Ти-Ви-Миги и позаботились о возникновении этого пространства, чтобы заснять «трагикомедию». Фанатики, безумцы спонтанной съемки, для них не существовало ни эмоций, ни опасностей.
Над батальоном «добровольцев» развернулся довольно большой и вполне эффектный белый флаг капитуляции. В передней шеренге склоненным несли трехцветное знамя России и несколько полковых штандартов.
В какой-то момент камера скользнула по молодым лицам советских танкистов. В своих шлемофонах они выглядели совершенно невозмутимо, только у двух-трех были приоткрыты рты, что придавало им, естественно, несколько дурацкий вид. Танки пока что стояли без движения, их прожекторы добавляли огня к софитам Ти-Ви-Мига. Теперь невидимый комментатор трещал по-английски с такой скоростью, будто шли последние минуты финального матча на Кубок Мира:
– Захватывающее и в самом деле довольно трогательное символическое событие! С опозданием на шесть десятилетий белая армия складывает оружие перед красной. Взгляните на этих дрожащих стариков, это те самые вдохновенные юноши Ледяного похода. Сколько их осталось, где развеяны их традиции? Кто они сейчас и перед кем капитулируют?..
Старики бросали на асфальт перед танками свое ржавое оружие и отходили в сторону, где снова строились с опущенными уже головами и заложенными за спину руками.
Вдруг что-то мгновенно переменилось. Исчезли лица танкистов, и закрылись люки. Захлебнулся на полуслове комментатор. Между танками появились несущиеся с автоматами наперевес «голубые береты». Не обращая внимания на старых белогвардейцев, но лишь оттесняя их, десантники бросились к платформам Ти-Ви-Мига. Изображение на экране стало прыгать. В какой-то момент Лучников увидел двух солдат, заламывающих руки назад парню в серебряной куртке, потом все пошло трещинами – удар прикладом прямо в камеру, потом на экране появились три бегущих серебряных куртки и преследующие их десантники. Упорные фанатики продолжали снимать собственный разгром.
– Странная акция десантного соединения, – хрипел, закрываясь локтем, знаменитый комментатор Боб Коленко, лицо у него было разбито в кровь, сзади на него наседал, просунув ствол карабина под подбородок, невозмутимый «голубой берет», но Боб Коленко видел нацеленный откуда-то глаз уцелевшей камеры и потому продолжал хрипеть: – Странная игра. Имитация атаки на средства массовой информации. Вы видите, господа, этот мальчик душит меня стволом своего карабина. Кажется, он принимает эту игру слишком всерьез…
Наконец канал Ти-Ви-Мига прикрылся фирменной серебряной заставкой с эмблемой – крылатый глаз. Встревоженный хозяин «Кадиллака» смотрел на Лучникова.
– Должно быть, эти негодяи из Ти-Ви-Мига проявили какую-то бестактность к нашим войскам. Не так ли, сударь?
Он переключил свой телевизор на Москву. Там показывали общим планом улицы крымских городов, заполненные восторженными толпами. В небе группа парашютистов образовала в затяжном прыжке слово СССР. Лучников увидел, что танки пошли.
– Там мой отец, – сказал он Кристине. – Попробую пробраться на площадь. Сядь за руль.
Она судорожно, каким-то лягушачьим движением вцепилась в него. Он вдруг почувствовал к ней отвращение и тут как раз заметил, как из какого-то «Каравана» в полусотне метров сбоку группа хмельных господ показывает на него пальцами и хохочет. Он мельком глянул на них, сначала не узнал, но потом узнал и внимательно вгляделся. Это были развеселые американские киношники во главе с Хэлоуэем-Октопусом, и среди них самый хмельной, самый развязный и самый оскорбительный вчерашний московский друг Витася Гангут. Именно он, а не она, тыкал в Лучникова пальцем, похабно хохотал, а заметив его взгляд, совсем уж зашелся. Надрываясь от хохота, он что-то орал прямо Лучникову, показывая на плывущие вокруг статуи Барона башни советских танков, надрывался, покатывался, а потом вытащил из кармана куртки какую-то зеленую книжицу и как бы торжественно показал ее Лучникову. Американский паспорт, догадался Лучников. Считает себя недосягаемым, свободным, гражданином мира, а меня уже крепостным Степаниды Власьевны. Он отвернулся от кинобанды так, словно их не было поблизости, снял с головы Кристины шляпу, стал гладить ее по волосам, целовать, успокаивать:
– Why, baby? Take it easy, easy, easy… I want you. I love you [Почему, бэби? Легче, легче, легче… Я хочу тебя. Я люблю тебя](англ.).
Она успокаивалась, пальцы ее выпускали его пиджак, тихо ползли по груди… она даже улыбнулась.
Рядом мелькнула какая-то тень, кто-то махнул звериным прыжком через капот «Кадиллака».
– Лучников, встаньте! Я хочу дать вам в морду!
Перед ним стоял молодой красавец, в полосатой майке и белых джинсах, смуглое, резко очерченное лицо – настоящий яки. Лучников успел перехватить летящий кулак. Пока две мускулистые руки превозмогали друг дружку, он вглядывался в гневное и презрительное лицо. Где он видел этого парня? Наконец догадался – его соперник по Антика-ралли, третий призер. Рука его упала.
– Маста Фа! Это вы?
Юноша с демонстративным омерзением вытирал ладонь о джинсы.
– Я Мустафа, а не Маста Фа, – яростно говорил он. – К черту яки! В жопу русских! Все вы – ублюдки! Я татарин! – Клокочущая крымская речь, перепутанные англо-русско-татарские экспрессии, плевок под ноги. – Знайте, что не плюю вам в лицо только из-за уважения к вашему возрасту. Больше ничего в вас не уважаю, а презираю все!
– Умоляю вас, Мустафа, – тихо сказал Лучников. – Где Антон?
– Вспомнил о сыночке? – зло засмеялся Мустафа. – Где были ваши родительские чувства раньше, сэр? Впрочем, все вы стоите друг друга, русские свиньи! Ждите газавата!
– Умоляю вас, – повторил Лучников. – Умоляю, если знаете, скажите – Памела родила?
Танковая колонна ушла на бульвар Января, и в автомобильной пробке началось медленное движение. Сзади загудели.
– Я перед тобой на колени встану, Мустафа, – сказал Лучников.
Нотки жалости мелькнули в свирепом голосе новоиспеченного исламского воина.
– Ночью они отправились в Коктебель, на Сюрю-Кая. Но она не родила еще, – сказал он. – Советую вам всем драпать с нашего Острова, и белым, и красным…
– Спасибо, Мустафа, – сказал Лучников. – Успокойся, друг. Не ярись. Пойми, вся наша прежняя жизнь кончилась. Начинается новая жизнь.
Сзади гудели десятки машин. Лучников взялся за руль. В последний момент он поймал на себе взгляд юноши и не увидел в нем ни презрения, ни гнева, а только лишь щенячью тоску.
– Прыгай на заднее сиденье! – крикнул он. Впереди был просвет, и «Питер-турбо», рявкая в своем лучшем стиле, устремился к памятнику барону Врангелю.
На площади вокруг статуи видны были следы странного побоища, вернее, избиения: осколки стекла, обрывки серебряных курток, раздавленный танком фургончик. У подножия памятника стояла группа растерянных городовых. С тревогой они вглядывались в даль бесконечного Синопского бульвара, где уже появились огни новой танковой колонны. Лучников притормозил и спросил одного из городовых, куда делись старики врэвакуанты.
– Все развезены по госпиталям, – довольно вежливо ответил городовой и вдруг узнал его, подтянулся. – Их тут порядком помяли, Андрей… есть травмы… ммм… ваш отец, Андрей…
– Что?! – вскричал Лучников в ужасе.
– Нет-нет, не волнуйтесь… там, кажется, только рука, только рука сломана… Его подхватили друзья… шикарная публика… да-да-да. Две шикарные дамы на «Руссо-Балте»… так точно, Андрей, с вашим дадди все – яки!
– Сержант, вы можете оказать мне услугу? – спросил Лучников.
– Вам, Андрей? Буду счастлив, Андрей! – Добродушная морда расплылась в улыбке.
– Вот вам номер телефона, позвоните, пожалуйста, господину Хуа и расскажите все, что вы знаете о моем отце. Пусть он разыщет его и немедленно едет вместе с ним в Коктебель. Я буду там.
– Иеп, Сара, иеп. – Сержант тут же начал пробираться к ближайшему кафе.
Лучникову пришлось несколько раз прокрутиться вокруг Барона, прежде чем удалось нырнуть в один из тоннелей Подземного узла. Пока он крутился, его все время не оставляла мысль о том, что нужно что-то еще сделать здесь, на этой площади, что он забыл сделать еще что-то необходимое… Перекреститься, наконец вспомнил он, на церковь Всех Святых в Земле Российской Воссиявших… В последний момент, когда его уже затягивало под землю, он успел бросить взгляд на прозрачный шар церкви и положить крест.
Под землей в оранжевом свете бесконечных фонарей, как обычно, неслись сотни автомобилей, и казалось, что все нормально, ничего не происходит, идет нормальная жизнь в этой нормальной суперцивилизации.
– Почему ты сам не разыскиваешь отца?! – крикнула ему Кристина. Она, кажется, совсем уже пришла в себя и даже закурила сигарету.
– Потому что надо перехватить Антона! – крикнул Лучников. – Папа уже выступил, а вот мальчик может натворить глупостей!
– Это точно! – крикнул кто-то сзади.
Лучников оглянулся и увидел скорчившегося на заднем сиденье Мустафу. Он протянул ему назад руку и ощутил под ладонью твердую мокрую щеку парня.
– Прости меня, Андрей-ага, – прокричал Мустафа. – У меня был нервный срыв.
Лучников потрепал его по щеке, снова опустил руку на руль. Кристина радостно обернулась к Мустафе, перегнулась через сиденье и стала целовать его.
Вскоре они вырвались на Восточный фривей и с эстакады увидели разворачивающуюся величественную картину военно-спортивного праздника «Весна». Эстакада почему-то была свободна от военной техники, и по ней, как в скучные дни независимости, по-прежнему неслись разномастные своры машин, быть может, генералы-стратеги не верили в прочность сверхмощных стальных опор. Зато внизу все дороги были забиты танками, броневиками и военными грузовиками, колонны двигались, кажется, довольно хаотически, натыкались друг на друга и подолгу стояли, образуя уродливые стада серо-зеленых животных, как бы толпящихся у водопоя. Повсюду висели и перелетали с места на место многочисленные вертолеты. Основной их задачей в этой местности, кажется, была координация движения колонн, но с задачей этой они как будто не справлялись, серо-зеленые стада только лишь пошевеливались и все росли, скапливались. На съездах с фривея пробки легковых машин. Сам фривей пока что был относительно свободен, во всяком случае, «Питер-турбо» без особого труда держал скорость сто десять. Временами из пустоты, из солнечного сияния звеньями по двое возникали двухвостые, устрашающе свистящие «МИГ-25». Они проходили над эстакадой и растворялись в голубизне. Где-то вдалеке, южнее, кажется в районе Баксана или Там-Дайра, в небе висело темное авиаоблако. Там, по всей вероятности, шла высадка парашютного десанта.
Вдруг, во время очередного пролета реактивного патруля, произошла серьезная неприятность. Ведомый «МИГ» задел крылом один из висящих над скоплением танков вертолетов. Что стало с «МИГом», сказать трудно, так как он исчез в полном соответствии со своей аббревиатурой. Геликоптер же загорелся и рухнул вниз. Там, у очередного «водопоя», началась паника, танки и броневики открыли беспорядочную стрельбу. К счастью, «Питер-турбо» успел проскочить опасную зону.
Карачель, Бахчи-Эли, Сады, Мама-Русская… Они уже приближались к съезду на Отузы, откуда до «Каховки» оставалось пятнадцать километров.
– Если застану Антошку и Памелу на горе, немедленно вернусь в Симфи за Арсением, – стал размышлять вслух Лучников. – Нам надо к вечеру собраться всем вместе на горе и решить, что делать дальше…
– Правильно! – радостно вскричала Кристина. – А ночью сбежим!
– Куда сбежим? – спросил Мустафа.
– Мир большой! – ликуя, кричала Кристина. Ее вдруг охватил восторг. Она подумала вдруг, что этот день, может, будет вспоминаться ей, как самое захватывающее приключение жизни. – Мир такой большой, эй ты, красивый татарин! Есть куда сбежать! Правильно, Андрей? Молчишь? Ты же сбежишь с нами? Ты верен своей жертвеннической идее? Русский мученик с нами не сбежит, милый Мустафа. Как жаль, правда? Я надеялась, что мы будем спать втроем, а теперь нам придется спать вдвоем, милый мой Мустафа.
Лучников, покосившись, увидел, как Кристина, перегнувшись назад, целуется с Мустафой, и подумал, что бляди, увы, ему всегда нравились больше порядочных женщин и что вот такая Кристина нравится ему больше, чем верная вооруженная пуританка.
В этот момент на приборной доске загорелся красный глазок – бензина осталось пять литров. Они только что проскочили городок Мама-Русская, но в полукилометре от городка был сравнительно свободный съезд к отелю, прилепившемуся на крутом склоне горы, и там, недалеко от отеля, яркие постройки каких-то шопов и кафе и бензостанция «Эссе», правда, забитая автомашинами.
– Придется заправиться здесь, – сказал Лучников. – Зальем полный бак и канистру. Кто знает, когда еще удастся и удастся ли заправиться вообще.
Небывалое явление – очередь на бензозаправочной станции – забавляло всех участников oчepeди, все улыбались друг другу и разводили руками – что, мол, поделаешь, историческое событие, в такой день и в очереди можно постоять. Машина Лучникова оказалась в третьем десятке. Кристина, неожиданно развеселившаяся и даже какая-то лихая, отпустила «мальчиков» в кафе выпить, а сама села за руль. Такое великодушие, да-да, джентльмены, новый век – женщина, предвкушая любовь, угождает мужчинам. Лучников оглянулся уже от дверей кафе – уж не начинается ли у нее снова истерика? Нет, как будто все в порядке. Миссис Паролей (кто, кстати, сам этот господин Петрушка, он никогда не спрашивал ее об этом) спокойно сидела в кресле водителя, и ее очень милые каштановые волосы были разбросаны по плечам.
В кафе было полно народу. Бойко работали две машины-эспрессо. Стоял гул сквозь музыку, светились два телеэкрана. Москва патетически-задушевным тоном повествовала о жизни и труде жителей и тружеников какого-то жилья и труда, рядом трещал восстановившийся после симферопольского разгрома Ти-Ви-Миг – показывали аресты и обыски в помещении одной из старейших ялтинских газет правого направления «Русский Артиллерист». В кафе обсуждали события, все соглашались, что временное (конечно же, временное) задержание всяких там газетчиков и телевизионщиков, а также лидеров политических партий – это меры необходимые и умные при проведении такого крупного исторического события, как военно-спортивный праздник «Весна». Мы вступаем, господа, простите, товарищи, в новую, следующую общественную формацию, объяснял какой-то фермер из немцев каким-то бездельникам приморского типа. Те согласно кивали. И я должен сказать, господа, простите, товарищи, что наше советское командование проводит эту смену чрезвычайно осторожно, тактично, я бы даже сказал, деликатно. Вспомните, какими жертвами сопровождался такой перелом в самой России.
Лучников взял кампари с содовой. Мустафа заказал крепчайший джин-вермут «Кокти».
– Не злитесь на меня, – сказал он.
– И вы на меня, – сказал Лучников.
– Скажите, Андрей, вы предполагали, что все произойдет именно так? – спросил Мустафа.
– Таких масштабов не предполагал, – сказал Лучников.
В кафе вошли три советских солдата, три «голубых берета» с автоматами на плечах и кинжалами у пояса. Конечно, они впервые были в западном кафе и сейчас явно растерялись, явно «поплыли». Подталкивая друг друга и криво усмехаясь, они уже собирались уйти, когда к ним устремился усатый красавец хозяин с распростертыми объятиями:
– Братья! Господа! Джентльмены! Чем могу служить?
Все в кафе были радостно потрясены вновь прибывшими, все обратились к ним с таким мощным радушием, что у солдатиков головы закружились.
– Дринк, – сказал один из солдат, блондинчик. – Водички можно? – Мучительными жестами, нелепо куда-то под мышку подсовывая автомат, он попытался объяснить «фирменной» публике всю скромность своего желания.
– Пить хотите, мальчики? – восхитился хозяин. – Пиво «Левинбрау» вас устроит?
Солдаты изумленно и боязливо переглянулись. Для них уже был очищен стол, открывались немыслимой красоты «валютные» банки холодного золотистого пива. Уже тащили им и хрустящие багеты, и нежнейшую ветчину, и огромное деревянное блюдо с двадцатью сортами сыра, а публика смотрела на них с умилением и восхищением.
Солдаты мялись, сглатывая слюну, наконец тот же блондинчик сказал: «Во фирма!» – и все трое тут начали с невероятным наслаждением пить и закусывать. Кто-то налил им по рюмке «Метаксы», и солдаты, что называется, «совсем захорошели».
– Приятного аппетита, – сказал хозяин. Десантники рты раскрыли, до них только сейчас дошло, что с ними говорят по-русски.
– По-нашему, значит, можете? – спросил блондинчик.
– Да ведь мы же ваши, – вскричал хозяин. – Мы ваши, а вы наши! У нас здесь все, как у вас!
Солдаты переглянулись и захохотали.
– У нас так не бывает! – хохотали они. – У нас по-другому!
Оказалось, что один из них костромчанин, а двое из Калуги.
– Сейчас вам старую песню споем, иностранцы, слушайте! А ну-ка дай жизни, Калуга, гляди веселей, Кострома!
Скоро все кафе распевало старую – оказывается, еще фронтовую! – песню, и все дарили солдатам на память разную мелочь: часы «Омега», зажигалки «Ронсон», перья «Монблан», перстни с камешками, ну и прочее. Мустафа от стойки смотрел на солдат.
– Ненавижу эту тупую сволочь, – сказал он.
– Напрасно, – сказал Лучников и положил парню руку на плечо.
– Я знаю вашу концепцию, ага, – сказал Мустафа, – следил за всеми вашими речами. Не понимаю. Извините, я преклоняюсь перед вами – человеком, спортсменом, мужчиной, но, когда я думаю о вашей концепции отвлеченно, вы представляетесь мне горбатым и злобным уродом из подвалов Достоевского…
– Отчасти ты прав, – проговорил Лучников. – Я горбат, но не зол. Послушай, Мустафа, какого ты рода?
– Ахмет-Гирей, – небрежно бросил юноша.
– Вот так даже? Гордый хан Ахмет-Гирей? – удивился Лучников.
– Вся наша гордость в прошлом, – сказал Мустафа. – Отец – биржевой спекулянт. Ему повезло, сейчас он в Афинах. Впрочем, как считаете, может, ему вернуться? Может, станет секретарем райкома? Есть же прецеденты. Принц Суфанувонг…
Вдруг он оборвал свою саркастическую речь и стал смотреть за плечо Лучникова. Тот обернулся. Дверь в кафе медленно открывалась, но за ней не было никого, за ней было солнце, и ветер, и беда.
…Пока они пили мартини и «Кокти», на бензозаправочной станции действительно созрела беда.
Кристина медленно продвигалась к колонке, и уже подошла ее очередь, когда с другой стороны подъехал массивный «Форд» с задними крыльями, похожими на плавники акулы, проржавленный символ «золотых пятидесятых». Кристина вспомнила вдруг, как в детстве в Чикаго, куда они с родителями сразу попали после бегства из Польши, ее, крошку, восхищали эти огромные машины. Сейчас такую редко встретишь, должно быть, ездит в ней какой-нибудь сноб.
Так и оказалось – снобейший сноб ездил в ржавой акуле: высокий сутулый мужлан в короткой кожаной куртке, в брюках галифе и в крагах! Машина была из середины столетия, водитель же явился как бы из начала. На мгновение он опередил Кристину и схватил шланг. Кристина улыбнулась ему и протянула руку, как бы заранее благодаря за любезность.
– Хуй тебе! – сказал мужчина и стал засовывать шланг в утробу своей машины.
– It's my turn, sir [Моя очередь, сэр](англ.), – улыбнулась она еще раз, но уже несколько растерянно, пожала плечами.
– Хуй тебе! – повторил мужчина свое не очень понятное приветствие.
Наливая бензин, он смотрел на Кристину. На глаза его падали два пегих крыла прямых сальных волос, престраннейшая улыбка обнажала десны. Малопривлекательный господин, подумала она. Кто-то из очереди крикнул что-то малопривлекательному господину по-русски – дескать, некрасиво так вести себя с дамами. Тогда тот распрямился и заорал, размахивая свободной рукой:
– Надоели эти иностранные бляди! Хватит с нас иностранных блядей! Куда ни войдешь, всюду иностранные бляди! Хватит! Тошнит! Теперь наши пришли! Русские войска пришли! Теперь мы всех иностранных блядей разгоним!
Затем он извлек шланг из своего рыдвана и направил мощную струю бензина прямо на Кристину.
Она была потрясена и не могла сойти с места. Бензин окатывал ее с ног до головы и обратно, а она не могла двинуться. Кажется, и все в очереди были потрясены таким неслыханным варварством. Немая сцена на бензозаправке, статичные позы, раскрытые рты.
Долговязый маньяк между тем бросил шланг – струя теперь заливала сиденья открытого «Питера», – хихикая, уселся в свой «Форд», закурил (!), бросил спичку в Кристину и поехал прочь.
В тот миг, когда открылись двери кафе, вернее, в следующий миг, Лучников и Мустафа увидели несущуюся, крутящуюся, сказочно прекрасную Кристину с пламенем на плечах и на бедрах. Странным образом Лучников в подобных ситуациях всегда реагировал мгновенно. Так и сейчас, юный Мустафа остолбенел, в то время как Лучников, сорвав с ближайшего стола скатерть, уже бежал за Кристиной.
У Кристины был взрыв болевой эйфории. Она хохотала и уворачивалась от Лучникова и от других преследователей. Кажется, единственное, что она понимала в этот момент, что она сказочно прекрасна, что пламя за плечами и на бедрах делает ее сказочно прекрасной, что мир вдруг преобразился ярчайшей полыхающей мечтой, а эти мужики с тряпками только и хотят, что эту мечту у нее отнять.
Она уже была почти спасена: Лучников настигал ее сзади, а навстречу к ней летел Мустафа, но вдруг она заметила сбоку барьер, за которым кончалась асфальтовая площадка станции и начинался склон. Немыслимая красота цветущего склона со скоплением тюльпанов и торчащими скалами. Она перешагнула через барьер и ринулась вниз. Влетела сразу в какую-то скалу, влепилась в нее, упала уже без сознания и покатилась вниз горящим комком.
Весь день был очень яркий, небо сверкало над всем Крымом, а мыс Херсонес просто купался в сиянии моря и солнца. В разгаре дня Андрей Лучников привез мертвую Кристину к Владимирскому собору. На обширном паркинге перед вратами храма, выходящими к морю, к античным развалинам, к крестам православного кладбища, было пустынно, стоял лишь зеленый старый «Фольксваген», по которому Лучников догадался, что отец Леонид здесь. Осторожно, как будто боясь потревожить, Андрей поднял на руки тело Кристины. Мустафа молча стоял рядом. Андрей огляделся. Никакого трагизма не было на его лице.
– Сейчас мы ее отпоем и похороним вот здесь же, на этом кладбище, – деловито сказал он Мустафе. – Это одно из самых удивительных, самых прекрасных кладбищ, которые я когда-либо видел.
– Так пойдем же, Андрей, пойдем в храм, – осторожно потянул его за рукав Мустафа.
– Посмотри, мусульманин, как плавно переходит здесь Эллада в Византию, а Византия в Россию, – с улыбкой сказал Андрей. Он сделал несколько шагов в сторону античного портика и прислонился к колонне. Он будто не замечал тяжести мертвого тела на своих руках.
Гора серо-зеленого металла, авианосец «Киев» в это время медленно и бесшумно проходил мимо мыса Херсонес в гавань Севастополя. Отчетливо видны были фигуры матросов с загорелыми лицами на палубах гиганта. Поворачивались антенны локаторов. Из недр авианосца поднимался очередной истребитель.
– Эффектное зрелище, правда, Мустафа? – с ленцой щурясь на солнце, проговорил Лучников. Он положил тело Кристины на мозаичный пол с античным орнаментом. Все перебинтованное, оно напоминало оголенный манекен. Лучников закурил. – Посмотри, как эффектно – такая стальная гора проплывает мимо античных развалин. Неплохо придумано, а?
– Пойдем, Андрей, – с тревогой сказал Мустафа. – Пойдем в храм!
– Посмотри, как поднимается с палубы этот удивительный ракетоносец, – сказал Лучников. – Самая современная техника. Вертикальный взлет. Вообще, взгляни, как все это эффектно, с каким размахом поставлено. Посмотри, что творится в небе, – вертолеты, кружат, как мухи…
– Там, кажется, и наш один, – проговорил Мустафа, глядя в небо. – Взгляни, вон один выше всех, голубой с радужным знаком.
– Это герой-одиночка! – расхохотался Лучников. – Неужели не понимаешь? По замыслу сценария – это герой-одиночка!
Авианосец миновал оконечность мыса, но все еще был очень близко, вздымался из моря, как бы соревнуясь в экспрессии с самим храмом Святого Владимира, построенным в начале века, на том месте, где первый русский, князь Владимир, принял христианство. Вдруг авианосец сказал огромным скучным голосом:
– Отрядам Попова и Ерофеева построиться на третьей палубе для встречи с представителями местного населения. Внимание. Командир корабля поздравляет молодых матросов с началом несения службы…
Авианосец чуть-чуть развернулся, и голос слегка заглох.
– Мустафа, ты понял наконец, что вокруг нас происходит? – с улыбкой спросил Лучников.
Юный красавец тряхнул головой, будто пытаясь рассеять наваждение: пустынный мыс, полумузей-полукладбище, тяжелый в византийском стиле русский храм, гигантский, вползающий в Севастополь стальной храм Советов, перебинтованный труп молодой женщины на мозаичном полу, ее хохочущий любовник, развалившийся у колонны… Мустафа повернулся и побежал к церкви.
– Это же киносъемки! – хохотал Лучников, не заметивший его исчезновения. – Ничего не скажешь, американский размах. Браво, Октопус! Ты затмишь сегодня и «The Longest Day» и «Apocalypse Now»! Витася, поздравляю, ты, конечно, постановщик! Браво, браво, гениально придумано! И флот закупили, и авиацию, серьезная игра! А как вы между делом надо мной поиздевались! Уверен, что вы и сейчас меня снимаете. Сцена сумасшествия в античных развалинах. Я вижу, вы и без меня отлично справились со сценарием. А смерть Кристи для вас – просто подарок, правда? Может быть, и спичку в нее бросил какой-нибудь ваш ассистент, какой-нибудь манхэттанский педрила? Новый творческий метод – съемка-хеппенинг! Браво! Как же я сразу не догадался, что это все с самого начала – трюки Хэлоуэя. Я даже там, на площади Барона, не догадался, когда они всей своей экипой потешались надо мной… Ну что ж, снимайте. Я буду хохотать. Вам нужно, наверное, чтобы я похохотал. Пожалуйста! Мне на все наплевать! Ха-ха-ха! Жалко, что Кристина не может для вас похохотать. Кристи, ты не можешь похохотать для джентльменов, у тебя чудные зубки, на экране это зазвучит отменно! Клево, как скажет Витася. Так, Витася? Я не забыл вашу московскую «феню»? Ну, а где наш одинокий герой? Ха-ха-ха, вот он, одинокий герой! Один, в стае красной саранчи! Ошеломляюще!
Между тем тот, кого Лучников называл «одиноким героем», был его ближайший друг, командующий крымскими «форсиз» полковник Чернок, и героем в голливудском духе «одинокого героя» он отнюдь себя не чувствовал. Весь день до этого часа он кружил над местами высадки поистине немыслимой по численности и тяжести армии. Масштаб праздника «Весна», казалось, значительно превышал братскую помощь Чехословакии.
У Чернока была отличная машина, сверхвысотный вертолет марки «Дрозд», выпущенный местным авиакомплексом «Сикорский». Он сидел в стеклянной части машины рядом с пилотом. В любую минуту он мог повернуться в кресле к экрану видеофона и вступить в связь с командиром любого полка. В задней части кабины два молодых офицера при помощи компьютерной системы получали и обрабатывали информацию.
Все высшее руководство «форсиз» (или почти все) было членами СОС, и на многочисленных совещаниях все офицеры уже десятки раз обсуждали различные варианты операции «Воссоединение». Никто, впрочем, не рассчитывал на тот вариант, который начался этой ночью и продолжал развиваться час за часом, катастрофически увеличиваясь в масштабах.
В какой-то момент у Чернока даже появились сомнения в стратегической мудрости московских маршалов и в тактическом умении советских генералов. Компьютерная система и наблюдение с высоты показывали, как гигантские войсковые соединения вдруг совершенно неоправданно упирались друг в друга или останавливались в странной иммобильности, а на них наваливались другие, неоправданно подвижные. В нескольких пунктах Острова возникли немыслимые по правилам современной науки скопления людей и техники. Общий замысел операции вырисовывался для Чернока туманно. Кажется, он был, если он вообще-то был, не особенно «элегантным». Военная наука в Москве явно отстает от советской шахматной школы, подумал полковник и вообразил свой доклад в Академии Генерального штаба, где он для общей пользы русского оружия вскроет замеченные недостатки. Впрочем, вряд ли они будут меня слушать, зашлют куда-нибудь в глухомань механиком. Так или иначе, можно было заметить, что части вторжения стараются заключить в «котлы» расположения крымских полков, аэродромы и морские базы. Чернок облетел почти все важные места от Сары-Булата до Керчи, говорил по видеофону с командирами. Все были веселы, все готовились к встрече, все поднимали на мачтах государственные флаги СССР. В нескольких местах к видеофону подходили уже советские офицеры, в рангах от майора до генерал-майора. Все они запрашивали Чернока о его местонахождении и любезно приглашали на личную встречу. В какой-то момент до него дошло, что офицеры эти не могут сами установить его местонахождение, так как не умеют обращаться с крымской техникой, а помочь некому, потому что… потому что… Ну, что там себя обманывать! Ясно, что они изолируют наших командиров. Странно, неужели они не понимают, что это может привести к неожиданным последствиям, к братоубийственным коллизиям?
Чернок с тревогой подумал о полковнике Бонафеде, командире ракетной базы в районе Севастополя. Кажется, это был единственный высший офицер, верный белым традициям и склонившийся к идеям СОСа только с большими оговорками. Вряд ли решительный и агрессивный Игорь Бонафеде добровольно пойдет под арест. На подходе к Севастополю авианосец «Киев». Великолепная цель для ракет Бонафеде!
Чернок приказал своему пилоту взять курс на Севастополь и вышел на видеосвязь с базой.
Полной неожиданностью было увидеть полковника за бутылкой виски с советским гостем, тоже полковником. Прервав веселый разговор, оба полковника повернулись к экрану.
– Здравия желаю, товарищ бывший командующий, – сказал Бонафеде.
– У тебя уже гости, Игорь, – сказал Чернок.
– Сергеев, – вежливо представился советский офицер. – Военная разведка.
– Очень приятно, – сказал Чернок. – Игорь, видите «Киев»?
Бонафеде рассмеялся.
– Не только вижу, но слышу, как там разговаривают. Мы как раз, Саша, спорим с полковником Сергеевым. Я говорю ему, что накрыл бы авианосец «Киев» одним залпом на дистанции сто миль, а он не верит, мудила грешный, в наши возможности…
– Вот тебе, Игорь! – Советский полковник показал Бонафеде свою правую ладонь, как бы обрубив ее ладонью левой.
– Вот тебе, Сергей! – Бонафеде показал Сергееву правую руку до локтя.
– Бестактный спор, – сухо сказал Чернок, отключил связь и сказал пилоту: – Снижаемся к базе Бонафеде.
– Снижаемся, сэр? – переспросил летчик.
– Не век же нам летать, – раздраженно бросил Чернок. – Постепенно снижаемся! Продолжаем наблюдение.
Они ушли мористее и начали медленное снижение. Уже виден был подходящий к Севастополю гигантский авианосец. В море, на сколько хватал глаз, маячили боевые корабли и транспорты. Десятки вертолетов летели к побережью. От пирсов к центру города ползли бронированные колонны.
Чернок повернул кресло на сто восемьдесят градусов и оказался как бы за оперативным столом – такое это было чудо, вертолет «Дрозд». Два молодых офицера, специалисты по оперативной информации, прапорщики Кронин и Ляшко, смотрели на него. Все трое некоторое время молчали.
– Они не сошли с ума, сэр? – наконец спросил Кронин.
Чернок попросил Ляшко налить ему полный стакан неразбавленного «Чивас Ригал».
– Самое смешное, сэр… – начал было Кронин.
– Нас атакует «МИГ-25», сэр, – сказал пилот. Чернок выпил полстакана и бросил взгляд назад. Успел увидеть только реверсионный след пролетевшего истребителя.
– Вы что-то хотели сказать, Кронин? – спросил он.
– Еретическая мысль, сэр, – улыбнулся юноша.
– Держу пари, сэр, она и вам приходила в голову, – сказал Ляшко.
Парни старались говорить по-русски, но то и дело переходили на более для них удобный язык, то есть английский.
– Как там истребитель? – спросил Чернок пилота.
– Заходит на второй круг атаки, – доложил пилот. – Вижу базу Бонафеде. К ней подходит бронетанковая колонна.
– Спускайтесь туда, – сказал Чернок, допил стакан до дна и закурил «сигариллос». – Да, мальчики, мне тоже приходила в голову эта мысль, – сказал он. – Больше того, она мне даже и ересью не кажется. Я почти уверен, что «форсиз»…
– Да! – вскричал Кронин. – Если бы это был неприятель, если бы это была армия вторжения, мы бы сбросили их в море!
– Боюсь, что мы бы их просто уничтожили, – холодно улыбнулся Ляшко. – Взгляните, сэр…
На темной стенке в глубине кабины высветилась карта Крыма. Пятнышко световой указки поползло по ней.
– Скопище техники у Карачели… – презрительно кривил губы Ляшко. – Толкучка в Балаклаве… Танковое месиво без капли горючего у Бахчисарая…
– Кронин, как бы вы действовали? – Чернок откинулся в кресле. – Давайте поиграем в войну.
– Ракетный залп, сэр, – только и успел сказать пилот. Мгновенно последовавший за этим взрыв уничтожил вертолет «Дрозд» и четырех находящихся в нем офицеров.
Кажется, Лучников даже видел яркую вспышку в небе, взрыв командного вертолета Чернока, но не обратил на нее особого внимания, отнеся к пиротехническим эффектам подлейшей киносъемки. Он вспомнил о Кристине и подумал о том, как безнравственно современное искусство. Все снимается на пленку и все демонстрируется, и чем естественнее выглядит человеческая трагедия, тем лучше, а во имя чего? Цель полностью утеряна…
Бедная девочка, подумал он, занесло тебя тогда в Крым… занесло тебя тогда в мою спальню… занесло тебя…
Он поднял ее тело и медленно направился к храму. Навстречу ему по дорожке, выложенной ракушечником, мимо античных руин и православных крестов, бежали три фигуры, он узнавал их по мере приближения: отец Леонид, Петр Сабашников в монашеском одеянии и Мустафа.
– Вот, – сказал Лучников, передавая тело Кристины на руки отцу Леониду. – Примите, отец Леонид. Она была рождена в католичестве, но обернулась к православию. Она меня очень любила. Какая разница – католичество, православие?.. Всем христианам нужно быть вместе, когда в мире совершаются безнравственные события, вроде этой киносъемки.
– Съемки, Андрей? – Сабашников обнял его за плечи. – Ты называешь это съемкой?
– Даже ты не догадался, – засмеялся Лучников. – Что же говорить о простых людях? Вообрази, какая это для них психологическая травма! Любопытно, кто дал банде Хэлоуэя разрешение на это массированное глумление?
– Пойдемте, дети мои, в храм, – сказал отец Леонид. – Будем вместе. Сегодня ночью многие придут, я думаю так. Иди и ты, Мустафа. Будь с нами. Ты не обидишь ислам, если будешь сегодня с нами.
– Я плохо знаю ислам, я буддист, – пробормотал юноша.
Отец Леонид шел широким крепким шагом. Белые ножки Кристины свисали со сгиба его руки. Лучников разрыдался вдруг, глядя на то, как они болтаются.
– Андрей, – повернулся к нему отец Леонид. – Утешься. Час назад я крестил здесь твоего внука Арсения.
Мыс Херсонес каменными обрывами уходит в море, но под обрывами еще тянется узкая полоска галечного пляжа. Там, в одной из крохотных бухточек, готовились к побегу четверо молодых людей – Бенджамен Иванов со своей подругой черной татаркой Заирой и Антон Лучников со своей законной женой Памелой; впрочем, их было пятеро – в побеге участвовал и новорожденный Арсений. В бухточке этой они нашли брошенный кем-то открытый катер с подвесным мотором «Меркурий». В катере оказалась еще и двадцатилитровая канистра с бензином – топлива вполне достаточно, чтобы достичь турецкого побережья.
Антон и Памела, потрясенные всеми событиями уходящего дня, сидели, прижавшись друг к другу боками, а спинами прижимались к уплывающему от них Острову Крыму. В последних передачах ныне уже заглохшего Ти-Ви-Мига промелькнуло сообщение о смерти деда Арсения и об аресте, или, как деликатно выразились перепуганные тивимиговцы, «временной изоляции» Андрея. На коленях у них, однако, лежал новорожденный Арсений, головкой на колене отца, попкой на бедре матери. Чувства, раздиравшие Антона, были настолько сильны, что он в конце концов впал попросту в какое-то оглушенное состояние. Жена его не могла ему ничем помочь, растерзанная родами, жалостью к Антону, нежностью к бэби, страхом перед побегом, она тоже впала в полулетаргию.
Впрочем, энергии Бен-Ивана хватало на всех пятерых. Он чувствовал себя в своей тарелке, побег был его стихией. Побег – это мой творческий акт, всегда говорил он. Я всегда благодарен тем, кто берет меня под арест, потому что предчувствую новый побег. Я буду очень разочарован, когда Россия откроет свои границы.
Вместе с милейшей своей подружкой, вечно пританцовывающей Заирой, Бен-Иван все приготовил на катере, а затем, ничтоже сумняшеся, отправился на «поверхность», как он выразился, в ближайший супермаркет, притащил оттуда одеяла, плащи, огромный мешок с едой и напитками и даже Си-Би-Радио. Он со смехом рассказывал о «наших ребятах», то есть о советских солдатах, в супермаркете, одном из бесчисленных филиалов «Елисеева-Хьюза», о том, с каким восторгом их там встречают, как они жрут печенье «афтерэйт» и жареный миндаль и как «вырубаются» от восторга.
– Дождемся ночи, Бен-Иван? – спросил его Антон.
– Ни в коем случае! – воскликнул «артист побега». – Ночью здесь все будет исполосовано прожекторами. Они будут каждую минуту подвешивать ракеты. Если они обнаружат нас ночью, нам конец.
– А если они обнаружат нас сейчас? – довольно весело поинтересовалась Заира.
– Сейчас другое дело, кара кизим, сейчас солнце склоняется к горизонту, заканчивается горячий денек истории, сумерки – это час прорех, расползания швов, час, когда видны просветы в эзотерический мир, когда на некоторый миг утрачивается спокойствие и хрустальные своды небес слегка колеблются. Понятно?
К начальнику сигнальной вахты авианосца «Киев» капитан-лейтенанту Плужникову подошел один из операторов старший матрос Гуляй.
– Товарищ капитан-лейтенант, – сказал он и вдруг как-то замялся, затерся, словно пожалел, что подошел.
– Ну, что, Гуляй? – поморщился капитан-лейтенант Плужников, который считал минуты до окончания вахты и мечтал об увольнении на берег. – Все в порядке, Гуляй? – Офицер уже чувствовал со стороны матроса какую-то «самодеятельность», так называемую инициативу, чувствовал также, что матрос уже жалеет о «самодеятельности», но не решается отвалить. – Поссать, что ли? – спросил он Гуляя.
– Да понимаете, товарищ капитан-лейтенант, – с нескрываемой досадой сказал старший матрос, – объект на приборе.
«Ах ты, падла такая, Гуляй, – думал Плужников, глядя на светящуюся блошку в углу экрана. – Ну, какого хуя с места сорвался? Что тебе, паскуда, эта блоха? Может, плотик какой-нибудь болтается или ребята какие-нибудь от нашей армады в Турцию когти рвут? Ну, какого хуя… Придется теперь докладывать командиру, а то еще стукнет этот Гуляй…»
Он внимательно посмотрел в лицо старшему матросу. Отличная у парня будка – крепкая, чистая, нет, такой не стукнет. Впрочем, может, как раз такой и стукнет. Тогда вернулся к своему пульту, связался с командованием, доложил, как положено: объект, идущий от берега в нейтральные воды, в секторе хуй с минусом и три хуя в квадрате…
Начальник вахты корабля капитан первого ранга Зубов дьявольски разозлился на капитан-лейтенанта. Кто его за язык тянет? Подумаешь, бегут какие-то чучмеки на какой-нибудь шаланде. У всех классовое сознание в один день не пробудишь. Бегут, пусть бегут, больше места останется. Не буду никому докладывать, а Плужникову скажу, что будет отмечен. Рядом с Зубковым стоял его помощник кавторанг Гранкин и делал вид, что ничего не слышал, лишь еле заметная улыбка появилась на его лице, обращенном к подпрыгивающим над силуэтом Севастополя рекламным огням.
«Это он, пидар, психологический тест мне ставит, – подумал про Гранкина Зубов. – А вот сейчас я тебе сам психологическую штуку воткну, Гранкин-Хуянкин».
– Доложите командиру, – приказал Зубов, думая, что Гранкин начнет сейчас ваньку валять и на том проколется, но тот немедленно включил селектор и доложил командиру все, что полагается, и скосил, конечно, глазок в сторону Зубова – дескать, все нюансы, ебенать, им, Гранкиным, уловлены.
Командир авианосца контр-адмирал Блинцов в это время находился в собственной спальне, куда удалился для частного разговора с супругой, пребывавшей в этот момент по обыкновению на даче в Переделкино. Нужно было уточнить список покупок в пока еще капиталистическом Севастополе, а главное, узнать по только им двоим понятным намекам, как там младший сын Слава, ночевал ли дома или снова «ухилял» на Цветной бульвар к своей «хипне».
И тут этот малоприятный офицер Гранкин проявляет «самодеятельность», лезет с сообщением о какой-то дурацкой «блохе» в море. Конечно, на таких, как Гранкин, служба стоит, но личной симпатии эти заебистые твари вызвать не могут. Зубов, тот ходит, как будто на все кладет, но мужик отличный, банку хорошо держит и талантливый специалист…
Так или иначе, но через пятнадцать минут после сигнала старшего матроса Гуляя с борта авианосца «Киев» по направлению к «блохе», ползущей в бескрайнем море, вылетел боевой вертолет, ведомый старшими лейтенантами флота СССР Комаровым и Макаровым.
– Смотри, Толя, – сказал Комаров. – Как будто Греция слева, как будто мифология…
Пустынный мыс Херсонес проплыл слева, после чего они стали круто забирать в море.
Катер шел споро, временами слегка бухал днищем по небольшой волне, что накатывала сейчас с юга. Солнце садилось за Севастопольские холмы, небо и море за спинами беглецов горело дивным огнем, и из этого дивного огня явилась и зависла над катером зловещая стрекоза. Неужто конец, подумал Антон, сжимая плечи Памелы, неужто в один день конец нам всем, конец Лучниковым? Жена его тряслась и плакала. Заира закричала, поднимая ладони к вертолету:
– Ребята, не трогайте нас! Христа ради, пожалейте нас!
– Внимание, ложусь крестом, – деловито сказал Бен-Иван, отполз на корму, лег на спину и распростер руки, образовав фигуру креста и устремив на кабину вертолета мощный «отводящий» взгляд. От напряжения у него дергались нога и голова. Невозмутимым оставался один лишь младенец Арсений. Два могучих советских человека смотрели на них сверху.
– Видишь, Толя, какие ребята, – сказал старший лейтенант Комаров. – Отличные ребята.
Старший лейтенант Макаров молча кивнул.
– А девчонки еще лучше, – сказал Комаров. – Плюс новорожденный.
Макаров опять кивнул.
– Смотри, Толяй, они крестятся, – сказал Комаров. – У них там никакого оружия ни хера нету, Толяй. Крестятся, Толька, от нас с тобой крестом обороняются. Давай, Толька, шмаляй ракету!
– Я ее вон туда шмальну, – сказал Макаров и показал куда-то в мутные юго-восточные сумерки.
– Ясное дело, – сказал Комаров. – Не в людей же шмалять.
Он соответствующим образом развернул машину. Макаров соответствующим образом потянул рычаг.
– Але, девяносто третий, – ленивым наглым тоном передал Комаров на «Киев», – задание выполнено.
– Вас понял, – ответил ему старший матрос Гуляй, хотя отлично видел на своем приборе, что задание не выполнено.
На Херсонес упала ночь, когда из храма Святого Владимира вынесли легкий гроб с телом Кристины Паролей. За гробом шли четверо: отец Леонид, Петр Сабашников, Мустафа Ахмед-Гирей и Андрей Лучников.
Небо было полно звезд, а праздничное зарево Севастополя стояло за темной громадиной собора и не мешало звездам полыхать над пустынным мысом, где ярко белели мраморные останки Эллады и отсвечивал черный мрамор христианских надгробий.
Ракушечник слегка похрустывал под ногами маленькой процессии. Отец Леонид покачивал кадилом и читал от Матфея, тихо, как бы и себя самого вопрошая:
– …Что же смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы: пророка?
– Отец Леонид, – спросил Лучников. – Отчего сказано: у вас же и волосы на голове все сочтены?
Голос его лихорадочно подрагивал. Священник повернул к нему свое белое в темноте лицо.
– Светильник для тебя есть око, – читал он. – Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло.
Лучников сжал голову руками:
– Отчего же сказано, что даже волосы сочтены, что из двух птиц, купленных за ассарий, ни одна не упадет на землю без воли Отца нашего. Зачем же мы-то Ему? – Руки его упали.
Отец Леонид, отвернув лицо свое к небу, говорил в пустоту:
– …тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят его…
– К чему наши потуги? – спросил Лучников. – Почему сказано, что соблазны надобны Ему, но горе тем, через кого пройдет соблазн? Как бежать нам этих тупиков, отец Леонид…
Священник не взглянул на Лучникова, он говорил как бы только себе, но его гулкий голос далеко слышен был:
– …где будет труп, там соберутся орлы… и многие лжепророки предстанут и прельстят многих… претерпевший же до конца спасется… бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет…
Могильщики поставили гроб на край ямы. Все остановились. Лучников смотрел на спокойное детское лицо Кристины и механически повторял за отцом Леонидом слова заупокойной молитвы. Гроб опускался, падала сухая крымская земля. Он взял горсть этой земли, в которой, конечно, были и осколки Эллады, поднял глаза и увидал рядом другую могилу, черный мраморный крест и выбитое на нем имя покойной – ТАТЬЯНА ЛУНИНА.
– Значит, и она здесь, – пробормотал он. – Таня и Кристи теперь рядом. – Он улыбнулся. – Не пережали, ребята? Все правильно?
Сабашников обнял его за плечи. Мустафа тихо проговорил:
– В «Питере» работает Си-би. Антон и Памела вызывают. Они сейчас в море, уходят к Турции. Дали свои позывные. Еще полчаса они будут в зоне слышимости. Что им передать?
– Передай, что я целую их, – сказал Лучников. – Трижды целую маленького. Передай, что я страшно занят – я хороню своих любимых.
Сабашников крепче сжал его плечи.
– Повторяй за отцом Леонидом.
Втроем они вдруг крепко и ясно запели:
– «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, и всем телом твоим!»
Звезды полыхали. За собором Святого Владимира взлетал праздничный фейерверк.
В соседней аллее за осколком мраморной колонны давно уже ждал конца церемонии полковник Сергеев. «Боже, как я живу, – думал он. – Чем я всю жизнь занимаюсь». В душе его была тревога, он часто посматривал на светящийся циферблат своих часов… Вдруг что-то случилось с современным механизмом: стрелки, секундная, минутная и часовая, закрутились с невероятной скоростью, словно, в бессмысленной гонке, а в рамке дней недели стало выскакивать одно за другим: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг…
1977–1979 гг.
Назад: XIII Третий казенный участок
На главную: Предисловие