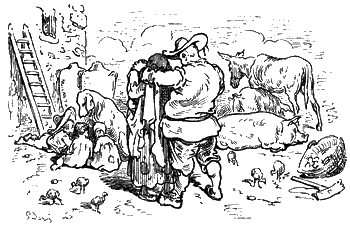Глава V
Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем
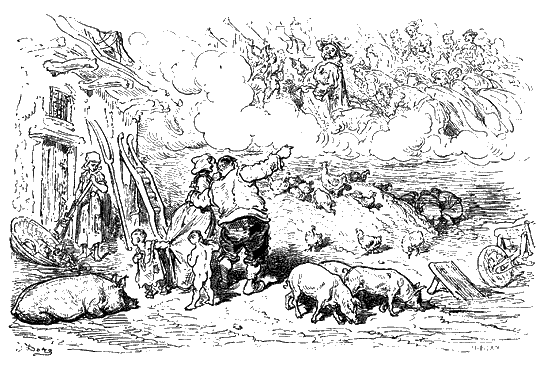
Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная, ибо в ней Санчо Панса изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны; однако ж, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее; итак, он продолжает.
Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена учуяла это веселье на расстоянии арбалетного выстрела и принуждена была спросить:
– Что с тобой, друг Санчо? Отчего ты такой веселый?
А Санчо ей на это ответил:
– Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.
– Я тебя не понимаю, муженек, – сказала жена, – не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался, – я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.
– Слушай, Тереса, – сказал Санчо, – я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним – меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перепутьям, – а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть, – веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.
– Послушай, Санчо, – сказала Тереса, – с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять.
– Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает, – возразил Санчо. – Ну, ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности – ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами и заколдованными маврами.
– Да уж я вижу, муженек, – сказала Тереса, – что хлеб странствующих оруженосцев – это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.
– Я тебе прямо говорю, жена, – сказал Санчо, – не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.
– Ну нет, муженечек, – возразила Тереса, – живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы – и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа – это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчико уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора, настоятель, который ему дядюшкой приходится, обещался направить его по духовной части. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча, совсем даже не прочь выйти замуж, – мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве, да ведь и то сказать: для девушки лучше плохой муженек, нежели хороший дружок.
– Клянусь честью, – молвил Санчо, – коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе как ваше сиятельство.
– Ну нет, Санчо, – возразила Тереса, – выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевенького платьишка – в шелковое, да с фижмами, и вместо Марика, ты, все станут называть ее донья такая-то и ваше сиятельство, так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.
– Молчи, дура, – сказал Санчо, – годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся – что за беда? Только бы ей стать вашим сиятельством, а все остальное вздор.
– Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием, – сказала Тереса, – не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятья». Подумаешь, какое счастье – выдать Марию за какого-нибудь графчонка или там дворянинишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, привози-ка скорей деньжат, а выдать ее замуж – это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась: вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятья и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец: там и люди ее не поймут, и она никого не поймет.
– Ах ты дурища, Вараввина жена! – вскричал Санчо. – Ну какая тебе корысть – не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали ваше сиятельство? Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный – пускай же он нас и несет.
Подобные обороты речи, а также иные из тех выражений, которые Санчо употребит ниже, и вынудили переводчика этой истории объявить, что он признаёт эту главу за вымышленную.
– Говори, тварь неразумная, – продолжал Санчо, – чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и через то мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать доньей Тересой Панса, и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров, – как ты себе хочешь, Санчика будет графиней.
– Ты соображаешь, что говоришь, муженек? – воскликнула Тереса. – Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай, как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда здорово живешь начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, штуковин и финтифлюшек – всяких там донов да распродонов, отец мой – по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса (хотя, по правилам, меня бы следовало звать Тересой Каскахо, ну да одно дело – закон, а другое – король), и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой доньи, а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша, – ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче, ишь ты, – фижмы да застежки, и нос дерет, как будто она знать нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств, – одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, – я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я – клянусь памятью моей матери – никуда из нашего села не двинемся: женщине честной – за прялкою место, а девушке скромной своя лачуга – хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злоключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится, а вот откуда у твоего господина появился дон– это мне, ей-ей, чудно, потому ни отцы его, ни деды донами не были.
– Нет, в тебя просто бес вселился, – объявил Санчо. – Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застежками, финтифлюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай, ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья): если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету наподобие инфанты не то доньи Собаки, не то доньи Урраки, – я уж позабыл, как ее звали, – вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришпилю ей донью и ваше сиятельство и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?
– Знаешь, муженек, отчего я не согласна? – отвечала Тереса. – Оттого, что, как говорится, «платье тебя одевает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами – и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе – куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.
– Постой, Тереса, – прервал ее Санчо, – слушай, что я тебе сейчас скажу, – такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то.
Вышеприведенные речи Санчо составляют вторую причину, по которой переводчик признаёт эту главу за вымышленную, ибо они превосходят понятие Санчо. А Санчо между тем продолжал:
– Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаемся к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицезрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением, – коли он уже в прошлом, – не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.
– Не понимаю я тебя, муженек, – сказала Тереса, – поступай, как знаешь, и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось…
– Заблагорассудилось должно говорить, жена, а не забезрассудилось,– поправил Санчо.
– Не спорь со мной, муженек, – возразила Тереса, – я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губернаторство, то возьми с собой своего сына Санчо и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать – ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.
– Когда я буду губернатором, – объявил Санчо, – я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он таков, а было видно, каким ему надлежит быть.
– Пришли только денег, – молвила Тереса, – а уж он у меня будет разодет в пух и прах.
– Ну, словом, – заключил Санчо, – мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней.
– В тот день, когда она станет графиней, – возразила Тереса, – я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля – во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.
И тут она залилась такими горькими слезами, точно Санчика и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.