Книга: Жутко громко & запредельно близко
Назад: ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
Дальше: ГИРИ НА СЕРДЦЕ КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ
ПОЧЕМУ Я НЕ ТАМ, ГДЕ ТЫ
21/5/63
Мы с твоей матерью никогда не говорим о прошлом, это правило. Я выхожу из комнаты, когда она идет в ванную, а она не заглядывает мне через плечо, когда я пишу, это еще два правила. Я открываю для нее двери, но не касаюсь ее спины, пока она в них проходит, мне запрещено смотреть, как она готовит, она складывает мои брюки, но оставляет рубашки рядом с гладильной доской, я никогда не зажигаю свечи, если она в комнате, только гашу. Никогда не слушать грустную музыку — тоже правило, мы о нем договорились в самом начале, чем печальнее слушатель — тем грустнее песни, мы вообще почти не слушаем музыку. Каждое утро я снимаю простыни, чтобы отстирать от них свои записи, мы никогда не ложимся дважды в одну постель, мы не смотрим передачи о больных детях, она никогда не спрашивает, как прошел мой день, во время еды мы всегда садимся по одну сторону стола, лицом к окну. Как много правил, иногда я и сам путаю, что правило, а что нет, и делаем ли мы хоть что-нибудь просто так, я ухожу от нее сегодня, подчиняюсь ли правилу, в соответствии с которым мы организовали всю нашу жизнь, или собираюсь нарушить наше главное организующее правило? Раньше я приезжал сюда на автобусе в конце каждой недели, подбирал газеты и журналы, брошенные людьми перед посадкой в самолет, твоя мать все читает, и читает, и читает, ей нужен английский, чем больше английского, тем лучше, это правило? Я приезжал в пятницу вечером и поначалу вез домой один-два журнала и, может быть, газету, но ей было мало, мало сленга, мало образных выражений, мартышкин труд, медвежья услуга, сивый мерин, собачья жизнь, она хотела говорить, как урожденная американка, как будто больше нигде, кроме Америки, не жила, тогда я приехал с рюкзаком и набил его до упора, он был тяжел, мои плечи горели от английского, ей было мало, тогда я привез чемодан, я натолкал в него столько, что еле застегнул «молнию», чемодан провис от английского, мои руки горели от английского, ладони горели, костяшки пальцев, люди, наверное, думали, что я и вправду куда-то еду, наутро у меня спина ныла от английского, я стал замечать, что не спешу уходить, нахожу поводы задержаться, подолгу смотрю, как самолеты привозят и увозят людей, я начал приезжать по два раза в неделю и проводил тут по несколько часов, когда подходило время идти домой, мне не хотелось уходить, а когда уходил, меня тянуло обратно, теперь я приезжаю каждое утро перед открытием нашего магазина, и каждый вечер после ужина, что это, ищу ли знакомое лицо в толпе, выходящей из самолета, жду ли родственника, который никогда не приедет, может быть — Анну? Нет, не то, дело не в моей радости, не в облегчении моей ноши. Мне нравится видеть, как люди встречаются, может, это и глупо, что тут скажешь, нравится, как люди бегут навстречу друг другу, нравятся поцелуи и слезы, нравится нетерпение, рты, которые не могут наговориться, уши, которые не могут наслушаться, глаза, которые не могут вобрать в себя все перемены сразу, нравятся объятья, воссоединения, конец тоски, я сижу в стороне, пью кофе и пишу в дневнике, я изучаю расписание прилетов и вылетов, которое знаю назубок, я наблюдаю, я пишу, я стараюсь не думать о жизни, которую боялся потерять, но потерял и теперь обречен помнить, а здесь мое сердце набухает от радости, хоть она и чужая, как в конце дня мой чемодан набухает старыми новостями. Наверное, что-нибудь в этом же роде я навоображал себе, когда встретил твою мать, я думал, что мы бросимся навстречу друг другу, что наше воссоединение будет прекрасно, хотя в Дрездене мы и знакомы-то толком не были. Не сложилось. Мы забрели куда-то, шаря перед собой руками, но не для того, чтобы что-то найти, а чтобы никого не подпустить близко, у нас для всего было правило — руководство по совместной жизни, со всего снята мерка, брак миллиметров и правил, когда она поднимается, чтобы идти в душ, я кормлю животных — это правило — иначе ей будет неловко, она находит, чем себя занять, когда я раздеваюсь перед сном, — правило — идет к дверям удостовериться, что закрыты, перепроверяет духовку, любуется своими коллекциями в буфете, снова и снова пересчитывает бигуди (не помню, чтобы она хоть раз ими пользовалась), а когда она раздевается, на меня обрушивается такое количество дел, что только успевай поворачиваться. Уже через несколько месяцев после свадьбы мы стали отводить в квартире места под «Ничто», где каждому гарантировалось абсолютное уединение, мы договорились не замечать этих мест, считать их несуществующим пространством квартиры, в чьих границах каждый сможет временно не существовать, первое было в спальне, у изножья кровати, мы обозначили его границы на ковре красным скотчем, уместиться в нем можно было только стоя, удобное место для выпадения из реальности, мы знали, что оно есть, но никогда его не замечали, нам так понравилось, что мы решили организовать второе Ничто в гостиной, это казалось необходимым, ведь нередко выпадать из реальности приходится именно там, а иногда из нее просто хочется выпасть, его мы сделали чуть просторнее, чтобы один из нас мог там даже прилечь, мы условились не замечать этот четырехугольник пустоты, его не существовало, а когда один из нас находился внутри, не существовало и нас, на какое-то время этого хватило, но ненадолго, нам понадобились новые правила, в нашу вторую годовщину мы отвели под Ничто всю гостевую спальню, тогда это показалось отличной идеей, порой крошечного клочка в изножье кровати и прямоугольника в гостиной маловато для уединения, дверь со стороны комнаты попала в Ничто, а со стороны прихожей осталась в Нечто, ручка на двери с обеих сторон оказалась ровно посередине. Стены прихожей были Ничто (картинам ведь тоже нужно исчезать, картинам особенно), но сам коридор был Нечто, пустая ванна была Ничто, но наполненная водой — Нечто, волосы на наших телах, конечно же, были Ничто, но стоило им скопиться у водостока, как они становились Нечто, мы старались облегчить себе жизнь, каждым новым правилом старались избавить себя от усилий. Но между Ничто и Нечто начались стычки, по утрам ваза из Ничто отбрасывала тень в Нечто, как напоминание о понесенной когда-то утрате, что ты на это скажешь, ночью Ничто света из гостевой спальни просачивалось под Ничто двери и заливало собой Нечто прихожей, нечего тут сказать. Стало непросто переходить из Нечто в Нечто без того, чтобы не угодить в Ничто, а когда Нечто (ключ, ручка, карманные часы) оказывалось забытым в Ничто, оно становилось его частью, навсегда прекращало существовать, это правило мы не оговаривали, как, впрочем, и почти все наши правила. Настал момент, год или два назад, когда Ничто в нашей квартире победило Нечто, сам по себе этот факт, может, еще и не был проблемой, а даже наоборот, это могло нас спасти. Но стало хуже. Как-то я сидел на диване в гостевой спальне и думал, думал, думал, пока вдруг не осознал, что нахожусь на островке Нечто. «Как я сюда попал, — удивился я, окруженный морем Ничто, — и как мне отсюда выбраться?» Чем дольше мы жили с твоей матерью, тем больше считали, что нам друг про друга и так все ясно, тем реже говорили, тем чаще недопонимали, иногда я считал, что то или иное место в квартире мы отвели под Ничто, в то время как она уверяла, будто мы условились считать его Нечто, наши невысказанные согласия приводили к разногласиям, к страданиям, однажды я начал раздеваться прямо перед ней, это было всего несколько месяцев назад, и она сказала: «Томас! Что ты делаешь!», и я жестом сказал «Я думал, что я в Ничто», прикрываясь одним из своих дневников, и она сказала: «Это Нечто!» Мы достали схему нашей квартиры из шкафа в прихожей и наклеили ее на внутреннюю сторону входной двери, оранжевым и зеленым фломастерами мы отделили Нечто от Ничто. «Это Нечто, — решили мы, — это Ничто». «Нечто». «Нечто». «Ничто». «Нечто». «Ничто». «Ничто». «Ничто». Все было навеки расписано, впереди только мир да согласие, вплоть до вчерашней ночи, последней для нас, когда прозвучал, наконец, этот неизбежный вопрос, и я ответил: «Нечто», накрыв ее лицо ладонями, а затем откинув их, как свадебную вуаль. «Иначе никак». Но в самом сокровенном уголке своего сердца я знал правду.

Красивая девушка не знала, который час, она спешила, она сказала: «Удачи», я улыбнулся, она ускорила шаг, ее юбка взметнулась, поймав в раструб поток встречного воздуха, порой мне чудится, будто я слышу, как прогибается мой хребет под тяжестью всех тех жизней, которые я не проживаю. В этой жизни я сижу в аэропорту, пытаясь оправдаться перед своим нерожденным сыном, я заполняю страницы этого последнего дневника, я вспоминаю буханку черного хлеба, которую когда-то не убрал на ночь, и наутро обнаружил очертания мыши, прогрызшей ее насквозь, я нарезал буханку на ломти и в каждом увидел мышь, я вспоминаю Анну, я все готов отдать, чтобы никогда больше о ней не вспомнить, я дорожу лишь тем, что хочу потерять, я вспоминаю день нашей встречи, она пришла со своим отцом к моему отцу, наши отцы дружили, до войны они говорили об искусстве и литературе, но с тех пор как началась война, они говорили исключительно о войне, я заметил ее еще издали, мне было пятнадцать, ей было семнадцать, мы сидели на траве, пока наши отцы беседовали в доме, могли ли мы быть моложе? Мы говорили о пустяках, но казалось, что обсуждаем самые важные вещи, мы выдирали траву пригоршнями, и я спросил, любит ли она читать, она сказала: «Нет, но есть книги, которые я обожаю, обожаю, обожаю», так именно и сказала, трижды, «Ты любишь танцевать?», — спросила она, «Ты любишь плавать?» — спросил я, мы смотрели друг на друга до тех пор, пока не стало казаться, что сейчас все вокруг взорвется и запылает, «Ты любишь животных?», «Ты любишь плохую погоду?», «Ты любишь своих друзей?». Я рассказал ей о своей скульптуре, она сказала: «Ты станешь выдающимся художником». — «Откуда ты знаешь?» — «Знаю — и все». Я сказал, что уже и сейчас выдающийся, вот как я был в себе не уверен, она сказала: «Я имела в виду знаменитым», я сказал, что знаменитость меня не волнует, она спросила, что же тогда волнует, я сказал, что леплю скульптуры ради скульптур, она засмеялась и сказала: «Ты еще в себе не разобрался», я сказал: «Очень даже разобрался», она сказала: «Ну, конечно», я сказал «Разобрался!» Она сказала: «Это нормально — не разбираться в себе», она разглядела то, что было скрыто под панцирем, мою суть, «Ты любишь музыку?» Наши отцы вышли из дома и остановились в дверях, кто-то из них спросил: «Что же мы будем делать?» Я знал, что мое время с Анной почти истекло, я спросил, любит ли она спорт, она спросила, люблю ли я шахматы, я спросил, любит ли она поваленные деревья, они с отцом пошли домой, моя суть устремилась следом, я остался под своим панцирем, мне нужно было снова ее увидеть, я не мог себе этого объяснить, в необъяснимости и заключалась прелесть, это нормально — не разбираться в себе. Назавтра я дошел до ее дома в каких-нибудь полчаса, все время боялся, как бы кто не узнал меня по дороге между нашими деревнями, разве объяснишь другим то, чего не понимаешь сам, я был в широкополой шляпе и шел, низко опустив голову, я слышал шаги прохожих, но не знал, кому они принадлежат — мужчине, женщине, ребенку, мне казалось, что я иду по ступеням лестницы, лежащей плашмя, от стыда или от неловкости я бы ни за что не хотел попасться ей на глаза, что бы я ей сказал, и куда вела эта лестница: вверх или вниз? Я спрятался за кучей земли, вырытой для книжной могилы, литература была единственной религией, которую ее отец исповедовал, когда книга падала на пол, он ее целовал, прочитав книгу, старался отдать ее тому, кому бы она понравилась, если же достойный кандидат не отыскивался, он ее хоронил, я высматривал ее весь день, но так и не увидел, ни в саду, ни в окне, я дал себе слово, что не уйду, пока ее не увижу, но настал вечер, и я знал, что пора возвращаться домой, как же я ненавидел себя, что мне мешало быть тем, которые остаются? Я шел назад, понурив голову, я думал о ней не переставая, хотя почти ее не знал, я не представлял, что будет, когда ее увижу, но знал, что мне необходимо быть рядом с ней, я вдруг подумал, идя к ней на следующий день с низко опущенной головой, что она могла уже и вовсе забыть обо мне. Книги были зарыты, поэтому я спрятался за купой деревьев, я вообразил, как их корни опутали книги, тянут соки из страниц, я представил

годовые кольца стволов, составленные из букв, я прождал долго, я увидел твою мать в одном из окон второго этажа, она была еще совсем девочка, она поймала мой взгляд, но Анны я не увидел. С дерева слетел лист, он был желт, как бумага, пора было домой, а потом, на следующий день, меня опять потянуло к ней. Я пропустил занятия, не заметил, как до нее дошел, так старался спрятать лицо, что растянул шею, по пути моя рука чиркнула по чьей-то встречной руке — сильной, надежной, — и я попытался представить того, кому она могла принадлежать: фермера, землекопа, плотника, каменщика. Подойдя к ее дому, я обошел его и спрятался за задним окном, вдали прогрохотал поезд, люди приезжали, уезжали, солдаты, дети, окно дрожало, как барабанная перепонка, я прождал весь день, может, она уехала, может, у нее дела, может, она скрывается от меня? Когда я пришел домой, отец сказал, что его вновь навещал ее отец, я спросил, почему он запыхался, он сказал: «Дела все хуже и хуже», я подумал, что мы с ее отцом могли разминуться сегодня на улице. «Какие дела?» Не его ли сильная рука чиркнула о мою руку? «Все. В мире». Узнал он меня, или шляпа и опущенная голова это предотвратили? «С каких пор?» Быть может, его голова тоже была опущена. «С самого начала». Чем упорнее я старался не думать о ней, тем больше думал, тем невозможнее становилось это объяснить, я опять пошел к ее дому, по пути между нашими деревнями я ни разу не поднял голову, ее снова не оказалось, я хотел позвать ее, но боялся, что она узнает мой голос, весь мой порыв был следствием нашего мимолетного разговора, на ладони тех тридцати минут уместились сто миллионов доводов, и невозможных признаний, и молчаний. Мне о стольком нужно было ее спросить: «Тебе нравится лежать на животе и смотреть на вещи под коркой льда?», «Тебе нравятся пьесы?», «Тебе нравится, когда ты что-нибудь слышишь прежде, чем увидишь?» На следующий день я пошел опять, дорога была мучительной, с каждым шагом я все больше убеждал себя, что произвел на нее плохое впечатление, или еще того хуже — вообще никакого не произвел, я шел, низко склонив голову, широкополая шляпа надвинута чуть ли не на глаза, если прятать от мира лицо, мира не увидать, и вот почему посреди моей юности, в центре Европы, между двух наших деревень, незадолго перед тем, как все потерять, я врезался в нечто и был сбит с ног. Я не сразу пришел в себя и сперва подумал, что налетел на дерево, но потом дерево обрело очертания человека, который тоже сидел на земле и приходил в себя, а потом я увидел, что это была она, а она увидела, что это был я, «Здравствуй», — сказал я, отряхиваясь, «Здравствуй», — сказала она. «Умереть со смеху». «Да». Как это объяснить? «Ты куда идешь?» — спросил я. «Так просто гуляю, — сказала она. — А ты?» — «Так просто гуляю». Мы помогли друг другу подняться, она смахнула листья с моих волос, я хотел коснуться ее волос, «Вообще-то нет», — произнес я, еще не зная слов, которые скажу, но страстно желая, чтобы это были мои слова, желая, как никогда раньше, выразить свою суть и быть понятым. «Я шел тебя увидеть». Я сказал: «Я уже шестой день хожу к твоему дому. Почему-то хотелось еще раз тебя увидеть». Она молчала, я выставил себя на посмешище, это нормально — не разбираться в себе, и тут она засмеялась, никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сильно смеялся, смех вызвал слезы, слезы — новые слезы, тогда и я засмеялся от глубочайшего и всеобъемлющего стыда: «Я шел к тебе, — повторил я, точно затем, чтобы ткнуться носом в собственное дерьмо, — потому что хотел снова тебя увидеть». Она не унималась. «Теперь понятно», — сказала она, когда снова смогла говорить. «Что?» — «Понятно, почему все эти шесть дней тебя не было дома». Мы перестали смеяться, я вдохнул в себя мир, поставил его с ног на голову и выдохнул обратно в форме вопроса: «Я тебе нравлюсь?»
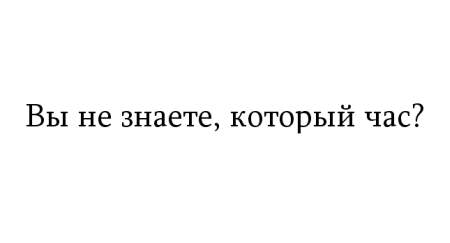
Он сказал 9:38, он был очень похож на меня, я увидел, что он это тоже заметил, мы одинаково улыбнулись — улыбкой узнавания себя в другом, сколько у меня двойников? Совершаем ли мы одни и те же ошибки или кто-то из нас сумел-таки их избежать, пусть не всех, но некоторых, двойник ли я? Сам себе сказал время и теперь думаю о твоей матери, какая она молодая и старая, как носит деньги в конверте, как в любую погоду мажет меня защитным кремом от солнца, как чихает и говорит: «Чтоб я была здорова», чтоб она была здорова. Она сейчас дома, пишет историю своей жизни, пока она стучит на машинке, я ухожу, не ведая о содержании грядущих глав. Это я предложил и в тот момент был очень собой доволен, я подумал, что, может, ей следует выражать себя, а не выстрадывать, может, таким образом она хотя бы частично избавится от своей страшной ноши, она жила механически, ничем не увлекалась, ни о ком не заботилась, ни к чему не прикипала душой, она помогала в магазине, потом приходила домой и сидела в своем кресле, пялясь в журналы, не в них, а сквозь них, не желая отрясти прах с плеч. Я достал из шкафа свою старую пишущую машинку и организовал ей рабочее место в гостевой спальне, там было все необходимое: карточный столик в качестве письменного, стул, бумага, какие-то стаканы, графин с водой, электроплитка, какие-то цветы, крекеры, не идеальный рабочий кабинет, но вполне приемлемый, она сказала: «Но ведь у нас там Ничто», я написал: «Разве есть более подходящее место, чтобы писать историю своей жизни?» Она сказала: «У меня глаза паршивят», я сказал, что глаза у нее еще очень даже ничего, она сказала: «Еле-еле фурычат», закрывая их пальцами, но я знал, что ей просто неловко от моего внимания, она сказала: «Я не умею писать», я сказал, что тут нечего уметь, пиши, как сердце подсказывает, она опустила руки на машинку, точно слепая, впервые ощупывающая чье-то лицо, и сказала: «Я не знаю, как этим пользоваться», я сказал: «Просто бей по клавиатуре», она сказала, что попробует, и хотя я с детства знаком с пишущей машинкой, сам только пробовать и могу. В следующие месяцы было так: она вставала в четыре утра и шла в гостевую спальню, звери устремлялись за ней, я приходил сюда, мы не виделись до завтрака и потом, после работы, вновь расходились, чтобы встретиться уже только перед сном, волновался ли я за нее, за то, что свою нынешнюю жизнь она проводит в своей прошлой жизни, нет, я не мог на это нарадоваться, я помнил все, что она должна чувствовать, бодрящую лихорадку созидания, из-за двери до меня доносились звуки творчества, буквы, впечатываемые в бумагу, страницы, выезжающие из каретки, прошлое, в кои-то веки ставшее лучше, чем оно было, ставшее идеальным, исполненным смысла, а потом, как-то утром этой весной, после своего многолетнего затворничества, она сказала: «Хочу тебе кое-что показать». Я пошел за ней в гостевую спальню, она указала в направлении карточного столика в углу, на котором между двумя одинаковыми по высоте стопками бумаги стояла печатная машинка, мы подошли к нему вместе, она дотронулась до всего, что было на столе, а затем протянула мне левую стопку, она сказала: «Моя жизнь». — «Твоя жизнь?» — спросил я пожатием плеч, она постучала пальцем по странице: «Моя жизнь», я пролистал несколько страниц, их было, наверное, около тысячи, я отложил стопку, «Что это?» — спросил я, приложив ее ладони к тыльным сторонам своих рук и затем сбросив их, повернув свои руки вверх ладонями, «Моя жизнь, — сказала она с гордостью. — Я восстановила ее вплоть до этой минуты. Только что. Зато теперь я за собой угналась. Вот моя последняя запись: «Сейчас покажу ему все написанное. Надеюсь, ему понравится». Я взял стопку в руки и снова начал листать, стараясь найти страницу, на которой она родилась, ее первую любовь, как она в последний раз видела родителей, я и Анну хотел найти, все искал и искал, я порезал указательный палец, оставив крошечный алый след в виде цветка на странице, где мне следовало увидеть, как она с кем-то целуется, но увидел я только вот что:



Мне захотелось плакать, но я не заплакал, а, наверное, надо было бы, надо было утопить нас в той комнате, избавить от страданий, нас обнаружили бы плавающими лицами вниз среди двух тысяч чистых страниц или похороненными под соляными кристаллами моих испарившихся слез, я вспомнил (только тогда и слишком поздно), что давным-давно вырвал из машинки печатную ленту, это был акт возмездия, я мстил машинке и мстил себе, я вытягивал ее, как кинопленку, разматывая сохраненный ею негатив — будущие дома, которые я создал для Анны, мои безответные письма, — будто это могло спасти меня от реальности. Но хуже того — как это выразить словами? пиши! — я осознал, что твоя мать не видит этой пустоты, она вообще ничего не видит. Я знал, что у нее неважно со зрением, она часто стискивала мою руку во время ходьбы, я слышал, как она говорила: «У меня глаза паршивят», но считал, что это лишь еще один повод ко мне притронуться, очередная фигура речи, почему она не позвала на помощь, зачем были все эти журналы и газеты, если она их не видела, может, это и было ее зовом о помощи? Может, поэтому она так вцеплялась в перила, отказывалась при мне готовить, переодеваться, открывать двери? Может, для того и держала под рукой всякое чтиво, чтобы больше ни на что не смотреть? Я столько всего написал ей за эти годы, а выходит, ни слова не проронил? «Прекрасно, — сказал я, гладя ее по плечу особым, выработанным между нами поглаживанием. — Просто прекрасно». — «Не томи, — сказала она. — Скажи, что ты думаешь». Я приложил ее руку к своей щеке, я наклонил голову к плечу — в контексте того, о чем мы (в ее представлении) разговаривали, это значило: «Не читать же мне это наспех. Я возьму в спальню и прочту неторопливо, внимательно, твоя жизнь иного не заслуживает». Но в контексте того, о чем (в моем представлении) был этот разговор, это значило: «Я тебя предал».

Первый раз мы с Анной занимались любовью за сараем ее отца, предыдущий владелец был фермером, но Дрезден начал наползать на окрестные деревни, и ферму разбили на девять земельных участков, семья Анны владела самым большим. Стены сарая рухнули еще осенью («Последний опавший лист оказался явно лишним», — пошутил ее отец), но уже на следующий день он соорудил новые стены из книжных полок, чтобы сами книги отделяли внутреннее пространство от внешнего. (Навес на новой крыше предохранял книги от дождя, но зимой их страницы смерзались, а по весне они испускали вздох.) Он устроил там нечто вроде салона, ковры, пара кушеток, он любил наведываться туда по вечерам со стаканчиком виски и трубкой, снимать с полок книги, смотреть сквозь стену на центр города. Он был интеллектуал, но не из тех, что владеют умами, возможно, поживи он подольше, он бы ими и завладел, возможно, великие книги сжимались в нем, как пружины, книги, способные отделить внутреннее от внешнего. В тот день, когда мы с Анной первый раз занимались любовью, он встретил меня во дворе, рядом стоял неопрятный человек с кудрями, вьющимися во все стороны, в погнутых очках, в белой сорочке, заляпанной типографской краской, его пальцы тоже были в ней, «Познакомься, Томас, это мой друг Симон Голдберг». Я поздоровался, я не знал ни кто он, ни зачем меня ему представляют, я искал Анну, мистер Голдберг спросил, чем я занимаюсь, голос у него был красивый и прерывистый, как мощеная мостовая, я сказал: «Ничем», он засмеялся. «Не скромничай», — сказал отец Анны. «Я хочу быть скульптором». Мистер Голдберг снял очки, вытянул из брюк концы рубашки и протер ими стекла. «Ты хочешь быть скульптором?» Я сказал: «Пытаюсь». Он вернул очки на лицо, заправил проволочные дужки за уши и сказал: «В твоем случае пытаться — значит быть». «А вы чем занимаетесь?» — спросил я с большим вызовом, чем мне бы того хотелось. Он сказал: «Больше уже ничем». — «Не скромничай», — сказал ему отец Анны, но не засмеялся, как в первый раз, и добавил: «Симон — один из величайших умов эпохи». — «Пытаюсь», — сказал мистер Голдберг, обращаясь ко мне, будто только мы вдвоем и существовали. «Что пытаетесь?» — спросил я с большим интересом, чем мне бы того хотелось, он опять снял очки: «Пытаюсь им быть». Пока ее отец беседовал с мистером Голдбергом в самодельном салоне, чьи книги отделяли внутреннее от внешнего, мы с Анной пошли по камышу, набросанному поверх серо-зеленой глины, мимо бывшего загона для лошадей вниз, к тому месту, с которого можно было увидеть реку, если знать, куда и как смотреть, мы были по щиколотку в грязи и мякоти нападавших фруктов, мы их откидывали мысками с дороги, с вершины их участка был виден железнодорожный вокзал со всей его суетой, хаос войны становился все ощутимее, солдаты шли через город на Восток, беженцы шли на Запад или оставались в городе, поезда прибывали и отбывали, сотни поездов, мы закончили там, где начали, у сарая, который был салоном. «Давай сядем», — сказала она, мы опустились на землю спинами к полкам, было слышно, как они разговаривают внутри, и пахло трубочным дымом, сочившимся между книг, Анна стала меня целовать. «А вдруг они выйдут?» — прошептал я, она дотронулась до моих ушей, что означало: пока мы их слышим, бояться нечего. Она стала гладить меня повсюду, я не знал, что она делает, я стал трогать ее повсюду, а я-то что делал, догадывались ли мы о чем-то, чего сами не могли объяснить? Ее отец сказал: «Оставайся здесь, сколько необходимо. Хоть навсегда». Она стянула блузку через голову, я взял в руки ее грудь, это было неуклюже, но это было естественно, она стянула с меня рубашку через голову, в ту секунду, что я ослеп, мистер Голдберг сказал со смешком: «Навсегда», я слышал, как он меряет шагами небольшую комнату, я положил руку ей под юбку, между ее ног, показалось: еще мгновение — и все вокруг взорвется и запылает, я откуда-то знал, что делать, все было в точности, как в моих снах, будто необходимая информация была сжата во мне, как пружина, происходящее сейчас происходило раньше и произойдет потом, «Я больше не понимаю мир», — сказал отец Анны, она легла на спину за стеной книг, пропускавших голоса и трубочный дым, «Хочу тебя», — прошептала Анна, я в точности знал, что делать, вечерело, отбывали поезда, я задрал ее юбку, мистер Голдберг сказал: «А я как никогда его понимаю», и я услышал его дыхание по другую сторону книг, сними он с полки хотя бы одну, и мы пропали. Но книги нас спасли. Я пробыл в ней не больше секунды, прежде чем взорваться и запылать, она тихонько заныла, мистер Голдберг топнул ногой и издал крик, как раненое животное, я спросил, не разочарована ли она, она качнула головой, что нет, я упал на нее, положив щеку ей на грудь, и увидел лицо твоей матери в окне второго этажа. «Тогда почему ты плачешь?» — спросил я, усталый и повзрослевший, «Война!» — сказал мистер Голдберг, сердитый и побежденный, его голос дрожал: «Мы убиваем друг друга без всякой цели. Человечество воюет против себя, это кончится только тогда, когда воевать станет некому». Она сказала: «Мне больно».

По утрам до завтрака и до того, как ехать сюда, мы с твоей матерью идем в гостевую спальню, животные следуют за нами, я проглядываю чистые страницы и жестикулирую смех или жестикулирую слезы, если она спрашивает, над чем я смеюсь или плачу, я постукиваю по странице пальцем, а если она спрашивает, почему, я прижимаю ее руку к сердцу, сначала к ее, а потом к своему, или тычу ее указательным пальцем в зеркало, или дотрагиваюсь им до электроплитки, иногда мне кажется, что она знает, мне кажется (в мои Наиничтожнейшие минуты), что она меня испытывает: целый день печатает ерунду или вообще ничего не печатает, чтобы посмотреть на мою реакцию, ей нужно подтверждение моей любви, только это всем друг от друга и нужно, не сама любовь, а подтверждение, что она в наличии, как свежие батарейки в карманном фонарике из аварийного набора в шкафу в коридоре, «Больше никому не показывай», — сказал я ей в то утро, когда она мне это показала впервые, то ли ее пытаясь защитить, то ли себя: «Мы будем держать это в тайне, пока не доведем до совершенства. Мы поработаем над этим вместе. Это будет самая великая книга из всех, когда-либо написанных». — «Ты думаешь, это возможно?» — спросила она, снаружи листья опадали с деревьев, внутри мы больше не придавали значения правде такого рода. «Да, — сказал я, касаясь ее плеча. — Если очень постараемся». Она вытянула перед собой руки и нащупала мое лицо, она сказала: «Я об этом напишу». С того дня я ее подбадриваю, умоляя писать больше, копать глубже. «Опиши его лицо», — говорю я, скользя рукой по пустой странице, и потом, на следующее утро: «Опиши его глаза», и потом, держа страницу на просвет окна, позволяя ей пропитаться светом: «Опиши его радужки», и потом: «Его зрачки». Она никогда не спрашивает: «Чьи?» Никогда не спрашивает: «Зачем?» Может, это мои глаза на тех страницах? Я увидел, что левая стопка удвоилась и учетверилась, я услышал, что отступлепия стали темами, стали абзацами, стали главами, и я знаю (она мне сказала), что предложение, которое некогда было вторым, теперь предпоследнее. Два дня назад она сказала, что ее прошлое проходит быстрее, чем настоящее. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я руками, «У нас почти ничего не происходит, — сказала она, — а память у меня отличная». — «Ты могла бы написать про наш магазин». — «Я описала каждый бриллиант в витрине». — «Ты могла бы написать про других людей». — «Моя жизнь — это история всех, кого я когда-либо знала». — «Ты могла бы написать про свои чувства». Она спросила: «Разве моя жизнь и мои чувства не одно и то же?»

Мне так много нужно тебе сказать, проблема не в том, что остается все меньше времени, а в том, что остается все меньше места, моя тетрадь на исходе, страниц никогда не бывает достаточно, сегодня утром я оглядел квартиру в последний раз, и в ней все было исписано, стены исписаны, зеркала, я свернул ковры, чтобы писать на полу, я писал на окнах и по кругу на бутылках вина, которое нам подарили, а мы так и не выпили, на мне всегда рубашка с короткими рукавами, даже в стужу, потому что мои руки — это тоже книги. Но всего не выразишь. Прости. Вот что я пытаюсь тебе сказать, прости за все. За то, что сказал Анне прощай, хотя, наверное, мог бы спасти ее и нашу абстракцию или погибнуть с ними. Прости, что неспособен забыть все неважное и что неспособен все важное сохранить. Прости, что так поступаю с вами, с твоей матерью и с тобой. Прости, что никогда не увижу твоей мордашки, не покормлю, не расскажу сказку на ночь. Я пытался объясниться по-своему, но когда вспоминаю историю с книгой твоей матери, понимаю, что не объяснил ничего, в этом мы с ней похожи, мои письма — тоже Ничто. «Посвящение», — сказала она сегодня утром, всего несколько часов назад, когда я в последний раз зашел в гостевую спальню. «Прочти». Я поднял пальцами ее веки, раскрыв ей глаза, чтобы в них уместились все оттенки смысла, я уходил от нее, не прощаясь, порывал с браком миллиметров и правил, «Не слишком длинно?» — спросила она, возвращая меня к своему невидимому посвящению, я коснулся ее правой рукой, не зная, кому она посвятила свою историю, «Не очень глупо, нет?», я коснулся ее правой рукой, я уже тосковал по ней, я не передумал, но задумался, «Я не слишком себя выпячиваю?», я коснулся ее правой рукой, судя по вопросу, она посвятила написанное себе, «Тебе это сразу обо всем говорит?» — спросила она и на этот раз показала пальцем на то, чего не было, я коснулся ее левой рукой, судя по вопросу, она посвятила написанное мне. Я сказал, что мне пора. Длинной серией жестов, значения которых другой бы не разобрал, я спросил у нее, не хочется ли ей чего-нибудь особенного. «Ты всегда приносишь только то, что я хочу», — сказала она. «Журналы о природе?» (Я взмахнул ее руками, как крыльями.) «Было бы славно». — «Что-нибудь про искусство?» (Я взял ее руку, как кисть, и нарисовал перед нами воображаемую картину.) — «Конечно». Она, как обычно, проводила меня до дверей, «Я могу не вернуться до того, как ты уснешь», — сказал я, положив ей на плечо руку ладонью вверх и потом нежно опустив на ладонь ее щеку. Она сказала: «Но я не засну без тебя». Я прижал ее руки к своей голове и кивком сказал, что заснешь, мы дошли до дверей, стараясь не выпасть из Нечто. «А вдруг я все-таки без тебя не засну?» Я прижал ее руки к своей голове и кивнул, «Ну, а вдруг?» Я кивнул, «Ответь, что тогда», — сказала она, я пожал плечами, «Обещай мне, что будешь внимателен», — сказала она, натягивая на мою голову капюшон пальто, «Обещай, что будешь вдвойне внимателен. Я знаю, ты смотришь по сторонам, когда переходишь дорогу, но я хочу, чтобы ты смотрел дважды, раз я тебя попросила». Я кивнул. «Ты намазался кремом?» Жестами рук я сказал ей: «На улице стужа. Ты простужена». — «Но ты намазался?» — спросила она. Сам не ожидая, я коснулся ее правой рукой. Я мог лгать всю жизнь, но не сумел обмануть ее в такой мелочи. Она сказала: «Подожди», и убежала куда-то, и вернулась с пузырьком крема. Она выдавила немного себе на руку, потерла ладони и намазала мне тыльную сторону шеи, и кисти рук, и между пальцев, и нос, и лоб, и щеки, и подбородок, все открытые места, под конец я стал глиной, а она — скульптором, я подумал: плохо, что приходится жить, но еще хуже, что живешь только однажды, потому что будь у меня две жизни, я бы прожил одну из них с ней. Я бы остался с ней в квартире, сорвал с дверей схему, держал бы ее в постели, говорил бы: «Дайте две булочки», распевал бы: «Start spreading the

news», смеялся бы: «Xa-xa-xa!», кричал бы: «Помогите!» Я бы провел эту жизнь среди живых. Мы вместе спустились на лифте и дошли до порога, она остановилась, я продолжал идти. Я понимал, что разрушаю все, построенное ею заново, но у меня была только одна жизнь. Я услышал за спиной плач. Повинуясь себе или вопреки себе, я обернулся, «Не плачь», — сказал я, приложив ее пальцы к своему лицу и собрав ими воображаемые слезы с щек обратно в глаза, «Я знаю», — сказала она и смахнула со своих щек настоящие слезы, я топнул ногой, это значило: «Я не поеду в аэропорт». — «Поезжай», — сказала она, я коснулся ее груди, потом вытянул ее руку вперед, указав на мир, потом указал той же рукой на грудь. «Я знаю, — сказала она. — Конечно, я это знаю». Я взял ее за руки и сделал вид, будто мы находимся за невидимой стеной или за воображаемой картиной, наши ладони ощупывают ее поверхность, а потом, рискуя сказать слишком много, положил одну ее ладонь на свои глаза, а другую — на ее, «Ты такой заботливый», — сказала она, я положил ее руки себе на голову и кивнул, она засмеялась, я люблю, когда она смеется, хотя правда состоит в том, что я ее не люблю, она сказала: «Я люблю тебя», я сказал, что чувствовал, вот как я это сказал: я развел в стороны ее руки, я нацелил ее указательные пальцы друг на друга и стал медленно, очень медленно их сводить, чем ближе они были, тем медленнее я их сводил, а потом, когда они почти встретились, когда расстояние между ними стало не больше вырванной из словаря страницы, и они уперлись с противоположных сторон в напечатанное на ней слово «любовь», я их остановил. Не знаю, что она подумала, не знаю, что поняла, а что не позволила себе понять, я повернулся и пошел, я не оглянулся и больше не оглянусь. Я говорю тебе все это, потому что никогда не буду твоим отцом, зато ты всегда будешь моим сыном. Я хочу, чтобы ты знал хотя бы одно: мною движет не эгоизм, как это объяснить? Я не могу жить, пытался — и не могу. Если это звучит просто, это так же просто, как гора. Твоя мать тоже настрадалась, но она выбрала жизнь и жила, будь же ей и сыном, и мужем. Я не жду, что ты меня поймешь, еще меньше жду, что простишь, эти слова могут до тебя и не дойти, если твоя мать так захочет. Мне пора идти. Я хочу, чтобы ты был счастлив, хочу этого сильнее, чем собственного благополучия, это тоже просто звучит? Я ухожу. Сейчас я вырву эти страницы из тетради, остановлюсь у почтового ящика перед тем, как сесть в самолет, напишу на конверте «Моему нерожденному сыну» и больше никогда ни слова не напишу, я сгинул, меня больше здесь нет. С любовью, твой отец.


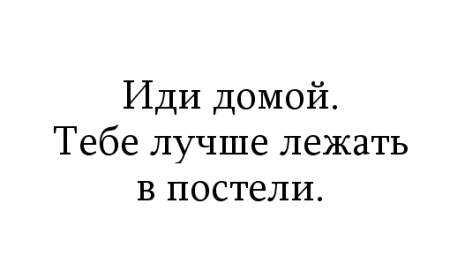



Назад: ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
Дальше: ГИРИ НА СЕРДЦЕ КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ

