ГЛАВА VI
Для Христианы Андермат настали счастливые дни. На душе у нее всегда было теперь легко и радостно. Каждое утро начиналось восхитительным удовольствием – ванной, в которой нежилось тело; полчаса, проведенные в теплой струящейся воде источника, словно подготовляли Христиану к ощущению счастья, длившемуся ведь день, до самого вечера. Да, она была счастлива, все стало радужным – и мысли и желания. Чья-то нежность, облаком окутывавшая ее, упоение жизнью, молодость, трепетавшая в каждой жилке, а также новая обстановка, этот чудесный край, словно созданный для покоя и грез, широкие просторы, благоуханный воздух, ласка природы – все будило в ней неведомые прежде чувства. Все, что ее окружало, все, с чем она соприкасалась, поддерживало это ощущение счастья, которое давала утренняя ванна; широкая и теплая волна счастья омывала ее, и вся она, душой и телом, погружалась в нее.
Андермат, решивший проводить в Анвале только две недели в месяц, уже уехал в Париж, поручив жене последить за тем, чтобы паралитик не прекращал лечения.
И каждое утро перед завтраком Христиана с отцом, братом и Полем Бретиньи ходила смотреть, как «варится суп из бродяги», по выражению Гонтрана. Приходили и другие больные и, обступив яму, где сидел Кловис, разговаривали с ним.
Старик утверждал, что «ходить-то он еще не ходит», но чувствует, как у него бегают мурашки по ногам. И он рассказывал, как они бегают, эти мурашки. Вот бегут, бегут по ногам выше колена, потом побежали вниз, спускаются до пальцев. Даже и ночью бегают, щекочут, кусают и не дают ему спать.
Приезжие господа и крестьяне, разделившись на два лагеря – маловеров и верующих, с одинаковым интересом следили за этим новым курсом лечения.
После завтрака Христиана обычно заходила за сестрами Ориоль, и они вместе отправлялись на прогулку. Из всего женского общества на курорте только с этими девочками ей было приятно поболтать и провести время, только к ним она чувствовала дружеское доверие и от них одних могла ждать теплой женской привязанности. Старшая сестра сразу понравилась ей своим положительным умом, рассудительностью и спокойным благодушием, а еще больше понравилась младшая, остроумная, по-детски шаловливая, и теперь Христиана искала сближения с ними не столько в угоду мужу, сколько для собственного удовольствия.
Прогулки совершали то пешком, то в ландо, в старом шестиместном дорожном ландо, нанятом в Риоме на извозном дворе.
Самым любопытным местом прогулки была дикая лощинка близ Шатель-Гюйона, которая вела в уединенный грот Сан-Суси.
Шли туда узкой дорожкой, извивавшейся по берегу речки под высокими елями, шли парами и разговаривали. Дорожку то и дело пересекал ручей, приходилось перебираться через него; тогда Поль и Гонтран, встав на камни в быстрой воде, протягивали руку дамам, и те одним прыжком перескакивали на другой берег. После каждой переправы порядок, в котором шли, менялся.
Христиана оказывалась то в одной паре, то в другой, но всегда находила предлог побыть наедине с Полем Бретиньи, уйдя вперед или отстав от остальных.
Теперь он держал себя с ней иначе, чем в первые дни, меньше смеялся и шутил, исчезла его резкость, товарищеская непринужденность, появилась почтительная заботливость.
Разговоры их приняли оттенок интимности, и в них большое место занимали сердечные дела. Поль говорил о них как человек многоопытный, изведавший женскую любовь, которая дала ему много счастья, но не меньше принесла и страданий.
Христиана слушала с некоторым смущением, но со жгучим любопытством и сама искусно вызывала его на откровенность. Все, что она знала о нем, пробудило в ней горячее желание узнать еще больше, проникнуть мыслью в загадочную, лишь смутно знакомую по романам мужскую жизнь, полную бурь и любовных тайн.
И он охотно шел навстречу этому любопытству, каждый день рассказывал что-нибудь новое о своей жизни, о своих романах и горестях любви; пробуждавшиеся в нем воспоминания вносили в слова пламенную страстность, а желание понравиться – затаенное коварство.
Он открывал перед глазами Христианы неведомый ей мир, он так красноречиво умел передать все переходы чувства, томление ожидания, растущую волну надежды, благоговейное созерцание бережно хранимых мелочей – засохшего цветка, обрывка ленты, – боль внезапных сомнений, горечь тревожных догадок, муки ревности и неизъяснимое, безумное блаженство первого поцелуя.
Но он рассказывал обо всем этом с большим тактом, не нарушая приличий, накидывая на все прозрачный покров, рассказывал поэтически и увлекательно. Как всякий мужчина, обуреваемый неотвязной мыслью о женщине, он, весь еще трепеща от любовной лихорадки, но с деликатными умолчаниями говорил о тех, кого любил. Он вспоминал множество обаятельных черточек, волнующих сердце, множество трогательных минут, от которых слезы навертываются на глаза, и все те милые мелочи, которые украшают ухаживание и для людей изысканных чувств и тонкого ума придают столько прелести любовным отношениям.
Эти волнующие откровенные беседы велись каждый день, с каждым днем все дольше и западали в сердце Христианы, как семена, брошенные в землю. И красота необъятных далей, ароматы, разлитые в воздухе, голубая Лимань, ее просторы, от которых как будто ширилась душа, угасшие вулканы на горном кряже – былые очаги земли, теперь согревающие лишь воду для больных, прохлада под тенистыми деревьями, журчание ручьев, бегущих по камням, – все это тоже проникало в молодую душу и тело, словно тихий теплый дождь, размягчающий девственную почву, летний теплый дождь, после которого вырастают цветы из посеянных в нее семян.
Христиана чувствовала, что этот человек немного ухаживает за ней, считает ее хорошенькой и даже больше чем хорошенькой, ей приятно было, что она нравится, возникало желание пленить и покорить его, подсказывавшее ей уйму хитрых и вместе с тем простодушных уловок.
Если его глаза выдавали волнение, она внезапно уходила от него; если чувствовала, что вот-вот начнутся признания в любви, она останавливала его на полуслове, бросив на него быстрый и глубокий взгляд, один из тех женских взглядов, которые огнем палят сердце мужчины.
Как тонко, немногими словами или совсем без слов, легким кивком, мнимо небрежным жестом или же грустным видом, который быстро сменялся улыбкой, она умела показать, что его усилия не пропадают даром!
Но чего же она хотела? Ничего. Чего ждала от этой игры? Ничего. Она тешилась этой игрой просто потому, что была женщина, что совсем не сознавала опасности, ничего не предчувствовала и только хотела посмотреть, что же он будет делать.
В ней вдруг вспыхнул огонек врожденного кокетства, тлеющий в крови всех женщин. Вчера еще наивная девочка, погруженная в дремоту, вдруг пробудилась и стала гибким и зорким противником в поединке с этим мужчиной, постоянно говорившим ей о любви. Она угадывала все возраставшее его смятение, когда он был возле нее, видела зарождавшуюся страсть в его взгляде, понимала все интонации его голоса с той особой чуткостью, которая развивается у женщины, когда она чувствует, что мужчина ищет ее любви.
За ней не раз ухаживали в светских гостиных, но ничего не могли добиться от нее, кроме насмешек шаловливой школьницы. Пошлые комплименты поклонников забавляли ее, унылые мины отвергнутых воздыхателей казались уморительными, на все проявления нежных чувств она отвечала задорными шутками.
Но теперь она вдруг почувствовала, что перед ней опасный, обольстительный противник, и превратилась в искусную кокетку, вооруженную природной прозорливостью, смелостью, хладнокровием; в соблазнительницу, которая, пока в ней не заговорило сердце, подстерегает, захватывает врасплох и накидывает невидимые сети любви.
В первое время она казалась ему глупенькой. Привыкнув к женщинам-хищницам, искушенным в любовных делах, как старый вояка искушен в боевых маневрах, женщинам, опытным во всех приемах кокетства и тонкостях страстей, он счел слишком пресной эту сердечную простоту и даже относился к Христиане с легким презрением.
Но мало-помалу сама эта нетронутость, эта чистота заинтересовали его, потом пленили, и, следуя своей увлекающейся натуре, он начал окружать молодую женщину нежным вниманием.
Он знал, что лучшее средство взволновать чистую душу – это беспрестанно говорить ей о любви, делая вид, что думаешь при этом о других женщинах; и, ловко пользуясь ее разгоревшимся любопытством, которое сам же и пробудил в ней, он под предлогом доверчивых излияний души принялся читать ей в тени лесов настоящий курс любовной страсти.
Для него, так же как и для нее, это была увлекательная забава; всевозможными маленькими знаками внимания, которые мужчины умеют изобретать, он показывал, что она все больше нравится ему, и разыгрывал роль влюбленного, еще не подозревая, что скоро влюбится не на шутку.
Для них обоих вести эту игру во время долгих, медлительных прогулок было так же естественно, как естественно для человека, оказавшегося в знойный день на берегу реки, искупаться в прохладной воде.
Но с того дня, когда в Христиане пробудилось настоящее кокетство, когда ей вдруг открылись все женские хитрости обольщения и вздумалось повергнуть к своим стопам этого человека бурных страстей, как захотелось бы выиграть партию в крокет, наивный искуситель попался в сети этой простушки и полюбил ее.
И тогда он стал неловким, беспокойным, нервным; она же играла с ним, как кошка с мышью.
С другой он не подумал бы стесняться, дал бы волю смелым признаниям, покорил бы ее захватывающей пылкостью своего темперамента; с нею он не решался на это: она была так не похожа на других женщин, которых он знал раньше.
Всех этих женщин уже обожгла жизнь, им можно было все сказать, с ними он мог осмелиться на самые дерзкие призывы страсти, дрожа, шептать, склоняясь к их губам, слова, от которых огонь бежит в крови. Он знал себя, знал, что бывает неотразимым, когда может открыться свободно в томящем его бурном желании и взволновать душу, сердце, чувственность той, которую любит.
Но возле Христианы он робел, словно она была девушка, – такую неопытность он угадывал в ней, и это сковывало все его искусство обольстителя. Да и любил он ее по-новому, как ребенка и как невесту. Он желал ее и боялся коснуться, чтобы не загрязнить, не осквернить ее чистоты. У него не возникало желания до боли сжать ее в своих объятиях, как других женщин, ему хотелось стать перед ней на колени, коснуться губами края ее платья, с тихой, бесконечной нежностью целовать завитки волос на ее висках, уголки губ и глаза, закрывшиеся в неге голубые глаза, чувствовать под сомкнутыми веками трепетный взгляд. Ему хотелось взять ее под свою защиту, оберегать от всех и от всего на свете, не допускать, чтоб она соприкасалась с грубыми, пошлыми людьми, видела уродливые лица, проходила близ неопрятных людей. Ему хотелось убрать всю грязь с улиц, по которым она проходит, все камешки с дорог, все колючки в лесу, сделать так, чтобы вокруг нее все было красивым и радостным, носить ее на руках, чтобы ножки ее никогда не ступали по земле. Его возмущало, что ей надо разговаривать с соседями в отеле, есть дрянную стряпню за табльдотом, переносить всякие неприятные и неизбежные житейские мелочи.
Близ нее он не находил слов, – так он был полон мыслями о ней; и оттого, что он был бессилен излить свое сердце, не мог осуществить ни одного своего желания и хоть чем-нибудь выразить сжигавшую его властную потребность всего себя отдать ей, он смотрел на нее взглядом дикого зверя, скованного цепями, и вместе с тем ему почему-то хотелось плакать, рыдать.
Она все это видела, хотя и не совсем понимала, и потешалась над ним со злорадством кокетки.
Если они оказывались одни, отстав от других, и она чувствовала, что вот-вот в нем прорвется что-то опасное для нее, она вдруг пускалась бегом догонять отца и, подбежав к нему, весело кричала:
– Давайте сыграем в четыре угла!
Впрочем, все их путешествия обычно заканчивались игрой в четыре угла. Отыскивали полянку или широкую полосу дороги и играли, как школьники на загородной прогулке.
Обеим сестрам Ориоль и даже Гонтрану большое удовольствие доставляла эта забава, удовлетворявшая желанию побегать, свойственному всем молодым существам. Только Поль Бретиньи хмурился и ворчал, одержимый совсем иными мыслями, но мало-помалу и его увлекала игра, он принимался догонять и ловить с еще большим пылом, чем другие, стремясь поймать Христиану, коснуться ее, внезапно положить ей руку на плечо, дотронуться до ее стана.
Маркиз, человек беспечный и равнодушный по природе, покладистый во всем, лишь бы не нарушали его безмятежного душевного покоя, усаживался под деревом и смотрел, «как резвится его пансион». Он находил, что эта мирная сельская жизнь очень приятна и все на свете превосходно.
Однако поведение Поля вскоре стало внушать Христиане страх. Однажды она даже по-настоящему испугалась его.
Как-то утром они пошли вместе с Гонтраном на «Край света» – так называли живописное ущелье, из которого вытекала анвальская речка.
Это извилистое ущелье, все более сужаясь, глубоко врезается в горный кряж. Надо пробираться между огромными глыбами, переправляться через ручей по крупным булыжникам, а когда обогнешь скалистый выступ горы высотою больше пятидесяти метров, перегородивший всю теснину, вдруг попадаешь в какой-то каменный ров с исполинскими стенами, лишь вверху поросшими кустарником и деревьями.
Ручей разливается здесь маленьким, совершенно круглым озерком; и какой же это дикий, глухой уголок, странный, фантастический, неожиданный; такой чаще встретишь в книжных описаниях, чем в природе.
И вот в то утро Поль, разглядывая высокий уступ скалы, который всем преграждал путь на прогулке, заметил на гранитном барьере следы, доказывавшие, что кто-то карабкался на него.
Он сказал:
– А ведь можно пройти и дальше!
И, не без труда взобравшись на отвесную стену, крикнул:
– О-о! Вот прелесть! Рощица в воде! Взбирайтесь!
Он лег ничком на верхушке глыбы, протянул руки и стал подтягивать Христиану, а Гонтран, поднимаясь вслед за ней, поддерживал ее и ставил ее ноги на каждый едва заметный выступ.
Позади этой преграды на каменную площадку упала когда-то земля, обвалившаяся с вершины горы, и там разросся дикий ветвистый садик, где бежал между стволами деревьев ручей.
Немного подальше гранитный коридор был перегорожен вторым уступом; они перелезли и через него, потом через третий и очутились у подножия непреодолимой кручи, откуда с высоты двадцати метров ручей падал отвесным водопадом в вырытый им глубокий водоем, укрытый сплетениями лиан и ветвей.
Расщелина стала такой узкой, что два человека, взявшись за руки, могли бы достать до обеих ее стенок. Вверху, высоко, виднелась полоска неба, в теснине слышался шум водопада; они оказались в одном из тех сказочных тайников природы, которые латинские поэты населяли нимфами из античных мифов. Христиане казалось, что они дерзостно ворвались во владения какой-нибудь феи.
Поль Бретиньи молчал. Гонтран воскликнул:
– Ах, как было бы красиво, если б в этом водоеме купалась белокурая женщина с нежно-розовым телом!
Они пошли обратно. С первых двух уступов спускаться было довольно легко, но третий напугал Христиану – такой он был высокий и отвесный: казалось, некуда поставить ногу.
Бретиньи соскользнул по гранитной стене, протянул руки и крикнул:
– Прыгайте!
Христиана не решалась – не оттого, что боялась упасть, – ее страшил он сам, особенно его глаза.
Он смотрел на нее жадным взглядом голодного зверя, и в этом взгляде была какая-то злобная страсть; руки, протянутые к ней, звали ее так властно, что ее охватил безумный страх, ей хотелось с пронзительным воплем кинуться прочь, вскарабкаться на отвесную скалу, только бы спастись от этого непреодолимого призыва.
Брат, стоявший позади нее, крикнул: «Да ну же, прыгай!» – и подтолкнул ее; Христиана в ужасе закрыла глаза и полетела куда-то в пропасть, но вдруг нежные и крепкие объятия подхватили ее, и, ничего не сознавая, ничего не видя, она скользнула вдоль большого сильного тела, ощутив на своем лице жаркое прерывистое дыхание. Но вот уже ноги ее коснулись земли, страх прошел, она открыла глаза и, улыбаясь, стала смотреть, как спускается Гонтран.
Однако пережитое волнение сделало ее благоразумной, несколько дней она остерегалась оставаться наедине с Полем Бретиньи, а он, казалось, бродил теперь вокруг нее, как волк из басни бродит вокруг овечки.
Но как-то раз задумали совершить дальнюю прогулку. Решили взять с собою провизию и поехать в шестиместном ландо вместе с сестрами Ориоль на Тазенатское озеро, которое местные жители называли «Тазенатский чан», пообедать там на траве и вернуться домой ночью, при лунном свете.
Выехали в знойный день после полудня, когда солнце жгло нещадно и накалило гранитные утесы, как стенки жарко натопленной печки.
Тройка мокрых от пота лошадей, тяжело поводя боками, медленно тащила в гору старую коляску; кучер клевал носом на козлах; по краям дороги между камней шныряли зеленые ящерицы. Горячий воздух, казалось, был насыщен тяжелой огненной пылью; порой он как будто застывал плотной неподвижной пеленой, которую нужно было прорывать, а иногда чуть колыхался, обдавая лицо дыханием пожара и густым запахом нагретой солнцем смолы, разливавшимся из длинных сосновых перелесков по обеим сторонам дороги.
В ландо все молчали. Три дамы, помещавшиеся на заднем сиденье, прикрывались зонтиками и жмурились в розовой их тени, спасаясь от жгучих лучей, слепивших глаза; маркиз и Гонтран спали, закрыв лицо носовым платком; Поль смотрел на Христиану, и она тоже следила за ним взглядом из-под опущенных ресниц.
Оставляя за собой столб белой пыли, коляска все ехала и ехала по бесконечному подъему.
Но вот выбрались на плоскогорье. Кучер встрепенулся, выпрямился, лошади взяли рысью, и коляска покатилась по гладкой дороге, пролегавшей среди широкой, волнистой, распаханной равнины, где были разбросаны рощи, деревни и одинокие дома. Вдалеке, слева, виднелись высокие усеченные конусы вулканов. Тазенатское озеро – цель прогулки – образовалось в кратере самого дальнего вулкана, на краю овернской горной гряды.
Они ехали уже три часа. Вдруг Поль сказал:
– Смотрите, лава!
У края дороги землю прорезали причудливо изогнутые коричневые глыбы и застывшие каменные потоки. Справа выросла какая-то странная, приплюснутая гора с плоской верхушкой, казалось, пустой внутри. Свернули на узкую дорогу, как будто врезавшуюся треугольником в эту гору. Христиана приподнялась, и вдруг перед ее глазами в большом и глубоком кратере заблестело озеро, чистое, совершенно круглое, сверкавшее на солнце, как новенькая серебряная монета. Склоны кратера, справа лесистые, слева голые, окружали его высокой ровной оградой. В спокойной воде, отливавшей металлическим блеском, справа отражались деревья, слева – бесплодный гранитный склон; отражались так четко, так ярко, что берега нельзя было отличить от их отражений, и только в середине этой огромной воронки виднелся голубой зеркальный круг, в который гляделось небо, и он казался сияющей бездной, провалом, доходившим сквозь землю до другого небосвода.
Дальше в экипаже нельзя было проехать. Все вылезли и пошли лесистым берегом по дороге, огибавшей озеро на середине склона. Дорога эта, по которой ходили только дровосеки, вся заросла травой, на ней было зелено, как на лугу, а сквозь ветви деревьев виднелся другой берег и вода, искрившаяся в этой горной чаше.
Через поляну вышли на самый берег и устроились под тенистым дубом на откосе, поросшем травой. Все вытянулись на мягкой, густой траве с каким-то чувственным наслаждением. Мужчины катались по ней, зарывались в нее руками. Женщины, спокойно лежа, прижимались к ней щекою, как будто искали ласки свежих, сочных ее стеблей.
После палящей жары в дороге все испытывали такое приятное, такое отрадное ощущение прохлады и покоя, что оно казалось почти счастьем.
Маркиз снова заснул, а вскоре и Гонтран последовал его примеру. Поль тихо разговаривал с Христианой и девушками. О чем? О всяких пустяках. Время от времени кто-нибудь произносил какую-то фразу. Другой, помолчав, отвечал; лень было думать, лень говорить, и мысли и слова, казалось, замирали в дремоте.
Кучер принес корзину с провизией. Сестры Ориоль, с детства приученные к домашним заботам и еще сохранившие привычку хлопотать по хозяйству, тотчас принялись немного поодаль распаковывать корзину и приготовлять все для обеда.
Поль остался один с Христианой; она задумалась о чем-то и вдруг услышала еле внятный шепот, такой тихий, как будто ветер прошелестел в ветвях слова, которые прошептал Поль: «В моей жизни не было лучшего мгновения».
Почему эти туманные слова взволновали ей всю душу? Почему они так глубоко растрогали ее?
Она по-прежнему смотрела в сторону и сквозь деревья увидела маленький домик-хижину охотников или рыболовов – совсем маленький, наверно, в нем была только одна комната. Поль заметил, куда она смотрит, и спросил:
– Случалось ли вам когда-нибудь думать о том, как хорошо было бы жить в такой вот хижине двум любящим, безумно любящим людям? Одни, совсем одни в целом мире – только он и она!.. И если возможно такое блаженство, разве не стоит ради него все бросить, от всего отказаться?… Счастье… Ведь оно приходит так редко, и такое оно неуловимое, краткое. А разве наши будни – это жизнь? Какая тоска! Вставать утром, не ведая пламенной надежды, смиренно тянуть лямку все одних и тех же занятий и дел, пить, есть, соблюдать во всем умеренность и осторожность да спать по ночам крепким сном с невозмутимым спокойствием чурбана.
Христиана все смотрела на домик, и к горлу у нее подступили слезы: она вдруг поняла, что есть в жизни опьяняющее счастье, о существовании которого она никогда и не подозревала.
Теперь и она тоже думала, что в этом домике, приютившемся под деревьями, хорошо было бы укрыться вдвоем и жить вот тут, на берегу чудесного, игрушечного озера, сверкающего, как драгоценность, настоящего зеркала любви. Вокруг была бы такая тишина – ни звука чужих голосов, ни малейшего шума жизни. Только любимый человек возле нее. Они вместе часами смотрели бы на голубое озеро, а он бы еще смотрел в ее глаза, говорил бы ласковые, нежные слова, целуя ей кончики пальцев.
Они жили бы здесь в лесной тиши, и этот кратер стал бы хранителем их страсти, как хранит он в своей чаше глубокое прозрачное озеро, замкнув его высокой ровной оградой своих берегов; пределом для взгляда были бы эти берега, пределом мыслей – счастье любви, пределом желаний – тихие бессчетные поцелуи.
Выпадает кому-нибудь в мире на долю такое счастье? Наверно. Почему же не быть ему на свете? И как же это она раньше даже и не думала, что могут быть такие радости?
Сестры Ориоль объявили, что обед готов. Было уже шесть часов. Разбудили маркиза и Гонтрана, и все уселись по-турецки перед тарелками, скользившими по траве. Сестры Ориоль по-прежнему исполняли обязанности горничных, и мужчины преспокойно принимали их услуги. Ели медленно, бросая в воду куриные кости и кожуру фруктов. Принесли шампанское, и, когда хлопнула пробка первой бутылки, все поморщились – таким здесь казался неуместным этот звук.
День угасал; в воздухе посвежело; с вечерним сумраком на озеро, дремавшее в глубине кратера, спустилась смутная печаль.
Солнце закатывалось, небо на западе запылало, и озеро стало огненной чашей; потом солнце скрылось за горой, по небу протянулась темно-красная полоса, багряная, как потухающий костер, и озеро стало кровавой чашей. И вдруг над гребнем горы показался почти полный диск луны, совсем еще бледный на светлом небе. А потом по земле поползла тьма, луна же все поднималась и засияла над кратером, такая же круглая, как он. Казалось, она вот-вот упадет в него. И когда луна встала над серединой озера, оно превратилось в чашу расплавленного серебра, а его спокойная, недвижная гладь вдруг подернулась рябью, то пробегавшей стремительной змейкой, то медленно расплывавшейся кругами. Как будто горные духи реяли над озером, задевая воду своими невидимыми покрывалами.
Это выплыли из глубины озера большие рыбы – столетние карпы, прожорливые щуки – и принялись играть при лунном свете.
Сестры Ориоль уложили в корзину всю посуду и бутылки; кучер унес ее. Пора было отправляться домой.
Пошли по лесной дорожке, где сквозь листву дождем падали на траву пятнышки лунного света; Христиана шла предпоследней, впереди Поля, и вдруг услышала почти у самого своего уха прерывистый тихий голос:
– Люблю вас!.. Люблю!.. Люблю!..
Сердце у нее так заколотилось, что она чуть не упала. Ноги подкашивались, но она все-таки шла, совсем обезумев; ей хотелось обернуться, протянуть к нему руки, броситься в его объятия, принять его поцелуй. А он схватил край косынки, прикрывавшей ее плечи, и целовал его с каким-то неистовством. Она шла, почти теряя сознание, земля ускользала у нее из-под ног.
Внезапно темный свод ветвей кончился, все вокруг было залито светом, и Христиана сразу овладела собой. Но прежде чем сесть в коляску, прежде чем скрылось из виду озеро, она обернулась и, прижав к губам обе руки, послала ему воздушный поцелуй; и тот, кто шел вслед за нею, все понял.
Всю дорогу Христиана сидела не шевелясь, не в силах ни двигаться, ни говорить, ошеломленная, разбитая, словно она упала и ушиблась. Как только подъехали к отелю, она быстро поднялась по лестнице и заперлась в своей комнате. Она заперла дверь и на задвижку и на ключ – таким неотвязным было это ощущение преследующего ее, стремящегося к ней страстного мужского желания. Вся замирая, стояла она посреди полутемной пустой комнаты. На столе горела свеча, и по стенам протянулись дрожащие тени мебели и занавесок. Христиана бросилась в кресло. Мысли ее путались, ускользали, разбегались, она не могла связать их. А в груди накипали слезы – так ей почему-то стало горько, тоскливо, такой одинокой, заброшенной чувствовала она себя в этой пустой комнате, и так страшно было, что в жизни она заблудилась, точно в лесу.
Куда же она идет? Что делать?
Ей было трудно дышать. Она встала, отворила окно, толкнула ставни и оперлась на подоконник. Потянуло прохладой. Одинокая луна, затерявшаяся в высоком и тоже пустом небе, далекая и печальная, поднималась теперь к самому зениту синеватого небесного свода и лила на листву и на горы холодный, жесткий свет.
Весь край спал. В глубокой тишине долины порой разносились только слабые звуки скрипки: Сен-Ландри всегда до позднего часа разучивал свои арии; Христиана почти не слышала их. Дрожащая, скорбная жалоба трепещущих струн то смолкала, то вновь звучала в воздухе.
И эта луна, затерявшаяся в пустынном небе, и эта еле слышная песня скрипки, терявшаяся в безмолвии ночи, пронизывали душу такой болью одиночества, что Христиана разрыдалась. Она вся содрогалась от рыданий, ее бил озноб, мучительно щемило сердце, как это бывает, когда к человеку подкрадывается опасная болезнь, и она вдруг поняла, что она совсем одинока в жизни.
До сих пор она этого не сознавала, а теперь тоска одиночества так овладела ею, что ей казалось, будто она сходит с ума.
Но ведь у нее были отец, брат, муж! Она же все-таки их любила, и они любили ее! А вот вдруг она сразу отошла от них, они стали чужими, как будто она едва была знакома с ними. Спокойная привязанность отца, приятельская близость брата, холодная нежность мужа теперь казались ей пустыми, ничтожными. Муж! Да неужели этот румяный болтливый человек, равнодушно бросавший: «Ну как, дорогая, вы хорошо себя чувствуете сегодня?» – ее муж? И она принадлежит этому человеку? Ее тело и душа стали его собственностью в силу брачного контракта? Да как же это возможно? Она чувствовала себя совсем одинокой, загубленной. Она крепко зажмурила глаза, чтобы заглянуть внутрь себя, чтобы лучше сосредоточиться.
И тогда все они, те, кто жил возле нее, прошли перед ее внутренним взором: отец – беспечный себялюбец, довольный жизнью, когда не нарушали его покой; брат – насмешливый скептик; шумливый муж – человек-автомат, выщелкивающий цифры, с торжеством говоривший ей: «Какой я сегодня куш сорвал!» – когда он мог бы сказать: «Люблю тебя!»
Не он – другой прошептал ей эти слова, все еще звучавшие в ее ушах, в ее сердце. Он, этот другой, тоже встал перед ее глазами, она чувствовала на себе его пристальный, пожирающий взгляд. И если бы он очутился в эту минуту возле нее, она бросилась бы в его объятия!
ГЛАВА VII
Христиана легла очень поздно, но лишь только в незатворенное окно потоком красного света хлынуло солнце, она проснулась.
Она поглядела на часы – пять часов – и снова вытянулась на спине, нежась в тепле постели. На душе у нее было так весело и радостно, как будто ночью к ней пришло счастье, какое-то большое, огромное счастье. Какое же? И она старалась разобраться, понять, что же это такое – то новое и радостное, что всю ее пронизывает счастьем. Тоска, томившая ее вчера, исчезла, растаяла во сне.
Так, значит, Поль Бретиньи любит ее! Он казался ей совсем другим, чем в первые дни. Сколько ни старалась она вспомнить, каким видела его в первый раз, ей это не удавалось. Теперь он стал для нее совсем иным человеком, ни в чем не похожим на того, с кем ее познакомил брат. Ничего в нем не осталось от прежнего Поля Бретиньи, ничего: лицо, манера держаться и все, все стало совсем другим, потому что образ, воспринятый вначале, постепенно, день за днем, подвергался переменам, как это бывает, когда человек из случайно встреченного становится для нас хорошо знакомым, потом близким, потом любимым. Сами того не подозревая, мы овладеваем им час за часом, овладеваем его чертами, движениями, его внешним и внутренним обликом. Он у нас в глазах и в сердце, он проникает в нас своим голосом, своими жестами, словами и мыслями. Его впитываешь в себя, поглощаешь, все понимаешь в нем, разгадываешь все оттенки его улыбки, скрытый смысл его слов; и наконец кажется, что весь он, целиком принадлежит тебе, настолько любишь пока еще безотчетной любовью все в нем и все, что исходит от него.
И тогда уж очень трудно припомнить, каким он показался нам при первой встрече, когда мы смотрели на него равнодушным взглядом.
Так, значит, Поль Бретиньи любит ее! От этой мысли у Христианы не было ни страха, ни тревоги, а только глубокая благодарная нежность и совсем для нее новая, огромная и чудесная радость – быть любимой и знать это.
Только одно беспокоило ее: как же теперь держать себя с ним, как он будет держаться? Этот щекотливый вопрос смущал ее совесть, и она отстраняла подобные мысли, полагаясь на свое чутье, свой такт, решив, что сумеет управлять событиями. Она вышла из отеля в обычный час и увидела Поля – он курил у подъезда папиросу. Он почтительно поклонился.
– Доброе утро, сударыня! Как вы себя чувствуете сегодня?
– Благодарю вас, – ответила она с улыбкой, – очень хорошо. Я спала прекрасно.
И она протянула ему руку, опасаясь, что он задержит ее руку в своей. Но он лишь слегка пожал ее, и они стали дружески беседовать, как будто оба все уже позабыли.
За весь день он ни словом, ни взглядом не напомнил ей о страстном признании у Тазенатского озера. Прошло еще несколько дней, он был все таким же спокойным, сдержанным, и у нее вернулось доверие к нему. «Конечно, он угадал, что оскорбит меня, если станет дерзким», – думала она. И надеялась, твердо верила, что их отношения навсегда остановятся на том светлом периоде нежности, когда можно любить и смело смотреть друг другу в глаза, не мучась укорами совести, ничем ее не запятнав.

Все же она старалась не удаляться с ним от других.
Но вот в субботу вечером, на той же неделе, когда они ездили к Тазенатскому озеру, маркиз, Христиана и Поль возвращались в десятом часу в отель, оставив Гонтрана доигрывать партию в экарте с Обри-Пастером, Рикье и доктором Онора в большом зале казино, и Бретиньи, заметив луну, засеребрившуюся сквозь ветви деревьев воскликнул:
– А хорошо было бы пойти в такую ночь посмотреть на развалины Турноэля!
И Христиану тотчас увлекла эта мысль – лунный свет, развалины имели для нее то же обаяние, как и почти для всех женщин.
Она сжала руку отца:
– Папа, папочка! Пойдем туда!
Он колебался, ему очень хотелось спать. Христиана упрашивала:
– Ты только подумай: Турноэль и днем необыкновенно красив, – ты ведь сам говорил, что никогда еще не видел таких живописных развалин. Этот замок и эта высокая башня… А ты представь себе, как же они должны быть прекрасны в лунную ночь!
Маркиз наконец согласился:
– Ну хорошо, пойдемте. Только с одним условием: полюбуемся пять минут и сейчас же обратно. В одиннадцать часов мне полагается уже лежать в постели.
– Да, да. Мы сейчас же вернемся. Туда и идти-то всего двадцать минут.
И они направились втроем к Турноэлю. Христиана шла под руку с отцом, а Поль рядом с нею.
Он рассказывал о своих путешествиях по Швейцарии, по Италии и Сицилии, описывал свои впечатления, восторг, охвативший его на гребне Монте-Роза, когда солнце взошло над грядой покрытых вечными снегами исполинов, бросило на льдистые вершины ослепительно яркий белый свет и они зажглись, словно бледные маяки в царстве мертвых. Он говорил о том волнении, которое испытал, стоя на краю чудовищного кратера Этны, почувствовав себя ничтожной букашкой на этой высоте в три тысячи метров, среди облаков, видя вокруг лишь море и небо – голубое море внизу, голубое небо вверху, и когда, наклонившись над кратером, над этой страшной пастью земли, он чуть не задохнулся от дыхания бездны.
Он рисовал то, что видел, широкими мазками, сгущая краски, чтобы взволновать свою молодую спутницу, а она жадно слушала его и, следуя мыслью за ним, как будто сама видела все эти величественные картины.
Но вот на повороте дороги перед ними вырос Турноэль. Древний замок на островерхой скале и высокая тонкая его башня, вся сквозная от расселин, пробоин, ото всех разрушений, причиненных временем и давними войнами, вырисовывались в призрачном небе волшебным видением.
Все трое в изумлении остановились. Наконец маркиз сказал:
– В самом деле, очень недурно. Словно воплощенный фантастический замысел Гюстава Доре. Посидим тут пять минут.
И он сел на дерновый откос дороги.
Но Христиана, не помня себя от восторга, воскликнула:
– Ах, папа, подойдем к нему поближе! Ведь это так красиво, так красиво! Умоляю тебя!
На этот раз маркиз отказался наотрез:
– Ну уж нет, дорогая. Я сегодня нагулялся, больше не могу. Если хочешь посмотреть поближе, ступай с господином Бретиньи, а я вас здесь подожду.
Поль спросил:
– Хотите, сударыня?
Она колебалась, не зная, как быть, – боялась остаться с ним наедине и боялась оскорбить этим недоверием порядочного человека.
– Ступайте, ступайте! – повторил маркиз. – Я вас здесь подожду.
Тогда она подумала, что отцу ведь будут слышны их голоса, и сказала решительно:
– Идемте.
И они пошли вдвоем по дороге.
Но уже через несколько минут ее охватило мучительное волнение, смутный, непонятный страх – страх перед черными развалинами, страх перед ночью, перед этим человеком. Ноги вдруг перестали слушаться ее, как в тот вечер у Тазенатского озера, они как будто вязли в болотной топи, каждый шаг давался с трудом.
У дороги, на краю луга, рос высокий каштан. Христиана, задыхаясь, как будто она долго бежала, бросилась на землю и прислонилась спиной к стволу дерева.
– Я не пойду дальше… Отсюда хорошо видно, – невнятно сказала она.
Поль сел рядом с нею. Она слышала, как бьется ее сердце быстрыми, резкими толчками. С минуту они молчали. Потом Поль спросил:
– Вам не кажется, что мы уже жили когда-то прежде?
Ничего не понимая от волнения и страха, она прошептала:
– Не знаю. Я никогда об этом не думала.
– А я думаю иногда… вернее, чувствую это… Ведь человек состоит из души и тела, они как будто отличны друг от друга, но природа их одна и та же, и, несомненно, они могут возродиться, если элементы, составившие их в свое время, соединятся в том же сочетании. И новый человек будет не таким же точно, но очень схожим с тем, кто существовал когда-то, если тело, подобное прежнему, оживит душа, подобная прежней. Сегодня вечером я чувствую, я уверен, что я жил когда-то в этом замке. Я узнаю свое гнездо, я владел им, сражался в нем, оборонял его. Это несомненно. И я уверен также, что любил тогда женщину, очень похожую на вас, ее даже и звали так же, как вас, Христианой! Я настолько в этом уверен, что, мне кажется, я вновь вижу вас вон там, на этой башне, вы зовете меня оттуда. Ну, вспомните, постарайтесь вспомнить! Позади замка спускается в глубокую долину лес. Мы с вами часто бродили там. В теплые летние вечера на вас были легкие одежды, а на мне тяжелые доспехи, звеневшие под сводами листвы.
Неужели вы не помните, Христиана? Подумайте, постарайтесь вспомнить! Ведь ваше имя мне так знакомо, как будто я слышал его с детских лет. А если внимательно осмотреть все камни этой крепости, на одном из них прочтешь его – оно вырезано моей рукой! Да, да, уверяю вас, я узнаю мое гнездо и мой край, так же как я узнал вас при первой же встрече, с первого взгляда!
Он говорил со страстной убежденностью, вдохновленный близостью этой женщины, красотой этой лунной ночи и развалин.
Внезапно он стал на колени перед Христианой и прерывающимся голосом сказал:
– Позвольте же мне поклоняться вам! Я так долго искал вас и наконец нашел!
Она хотела подняться, уйти, вернуться к отцу, но не было сил, не хватало мужества; ее удерживало, сковывало ее волю жгучее желание слушать его, впивать сердцем слова, восхищавшие ее. Она как будто перенеслась в волшебный мир всегда манящих мечтаний, поэтических грез, в мир лунного света и баллад.
Он схватил ее руки и, целуя ей кончики пальцев, шептал:
– Христиана!.. Христиана! Возьмите меня!.. Убейте меня!.. Люблю вас… Христиана…
Она чувствовала, как он дрожит, трепещет у ее ног. Он целовал ей колени, и из груди у него вырывались глухие рыдания. Ей стало страшно, не сошел ли он с ума, и она торопливо поднялась, хотела бежать. Но он вскочил быстрее, чем она, и, схватив ее в объятия, впился в ее губы поцелуем.
И тогда без крика, без возмущения, без сопротивления она упала на траву, как будто от этого поцелуя у нее подкосились ноги, сломилась воля. И он овладел ею так же легко, как срывают созревший плод.
Но едва он разжал объятия, она поднялась и бросилась бежать, обезумев, вся дрожа, вся похолодев, как будто упала в ледяную воду. Он догнал ее в несколько прыжков и, схватив за плечо, прошептал:
– Христиана, Христиана!.. Осторожнее – там ваш отец!
Она пошла медленнее, не отвечая, не оборачиваясь, машинально передвигая ноги, неровной походкой, спотыкаясь. Он шел следом молча, не смея заговорить с ней.
Завидев их, маркиз поднялся.
– Идемте скорее, – сказал он. – Мне уж холодно стало. Все это очень живописно, но для здоровья вредно.
Христиана прижималась к отцу, как будто искала у него защиты, искала приюта в его нежности.
Вернувшись в свою комнату, она мгновенно разделась, бросилась в постель, накрылась одеялом с головой и заплакала. Уткнувшись лицом в подушку, она плакала долго-долго, уничтоженная, обессиленная. Не было у нее ни мыслей, ни страданий, ни сожаления. Она не думала, не размышляла и сама не знала, почему плачет. Она плакала безотчетно, как случается, поют, когда на душе радостно. Измучившись, изнемогая от долгих слез и рыданий, разбитая усталостью, она наконец уснула.
Ее разбудил тихий стук в дверь, выходившую в гостиную. Было уже совсем светло, часы показывали девять. Она крикнула: «Войдите!» – и на пороге показался ее муж, веселый, оживленный, в дорожной фуражке, с неизменной дорожной сумкой через плечо, в которой он держал деньги.
Он крикнул:
– Как, ты еще спишь, дорогая! Я разбудил тебя? Нагрянул без предупреждения. Надеюсь, ты здорова? В Париже прекрасная погода.
И, сняв фуражку, он подошел, чтобы поцеловать ее.
Она съежилась и прижалась к стене в безумном нервном страхе перед этим румяным самодовольным человеком, вытянувшим губы для поцелуя. Потом вдруг закрыла глаза и подставила ему лоб. Муж спокойно приложился к нему и сказал:
– Ты позволишь мне помыться в твоей туалетной? Меня не ждали сегодня, и в моей комнате ничего не приготовлено.
Она ответила торопливо:
– Ну, конечно, пожалуйста.
Он исчез за дверью позади кровати.
Христиана слышала, как он там возится, плещется, насвистывает. Потом он крикнул:
– Что у вас новенького? У меня очень большие новости. Результат анализа превзошел все ожидания. Мы можем излечивать на три болезни больше, чем курорт Руайя. Великолепно!
Она села в постели, едва дыша, совсем потеряв голову от неожиданного возвращения мужа, как от болезненного удара, пробудившего в ней угрызения совести. Он вышел из туалетной довольный, сияющий, распространяя вокруг себя крепкий запах вербены. Потом уселся в ногах постели и спросил:
– А что наш паралитик? Как он чувствует себя? Начал уже ходить? Невозможно, чтоб он не выздоровел: в воде обнаружено столько целебных свойств!
Христиана совсем забыла о паралитике и уже несколько дней не ходила к источнику. Она пробормотала:
– Ну да… конечно… Кажется, ему уже лучше… Впрочем, я на этой неделе не ходила туда… Мне нездоровится…
Он посмотрел на нее внимательней и заметил:
– А правда, ты что-то бледненькая… Хотя это тебе очень идет… Очень! Как ты сейчас мила! Необыкновенно мила!..
Он пододвинулся и, наклонившись, хотел просунуть руку ей под спину, чтобы ее обнять.
Но она отпрянула с таким ужасом, что он остолбенел, застыл с протянутой к ней рукой и оттопыренными для поцелуя губами. Затем он спросил:
– Что с тобой? До тебя дотронуться нельзя! Я ведь не сделаю тебе больно!..
И он опять потянулся к ней, глядя на нее загоревшимися глазами.
Она заговорила, запинаясь:
– Нет… Оставь меня… оставь меня… Потому что… потому что… Мне кажется… кажется, я беременна…
Она сказала это, обезумев от страха, наобум, думая только, как бы избежать его прикосновения, – так же могла бы она сказать, что у нее проказа или чума.
Он тоже побледнел – от глубокого, но радостного волнения – и только прошептал: «Уже?!» Теперь ему хотелось целовать ее долгими, нежными поцелуями счастливого и признательного отца семейства. Потом он забеспокоился:
– Да возможно ли это?… Как же это?… Ты уверена?… Так скоро?…
Она ответила:
– Да… возможно…
Он закружился по комнате и закричал, потирая руки:
– Вот так штука, вот так штука! Какой счастливый день!
В дверь опять постучали. Андермат открыл ее, и горничная доложила:
– Пришел доктор Латон, хотел бы поговорить с вами по важному делу.
– Хорошо. Попросите в гостиную. Я сейчас приму его.
И Андермат вышел в смежную гостиную. Тотчас появился доктор. Вид у него был торжественный, натянутый и холодный. Он поклонился, едва пожав протянутую руку банкира, с удивлением смотревшего на него, сел и приступил к объяснению тоном секунданта, обсуждающего условия дуэли:
– Многоуважаемый господин Андермат! Я попал в очень неприятную историю и должен изложить ее, для того чтобы вы поняли мое поведение. Когда вы оказали мне честь, пригласив меня к вашей супруге, я немедленно явился, но, оказывается, за несколько минут до моего прихода к ней был приглашен маркизом де Равенелем мой коллега, инспектор водолечебницы, который, очевидно, пользуется большим доверием госпожи Андермат, нежели я. И получилось так, что я, придя вторым, как будто бы хитростью отнял у доктора Бонфиля пациентку, хотя он по праву уже мог считать себя ее врачом, и, следовательно, я как будто совершил поступок некрасивый, неблаговидный, недопустимый между коллегами. А нам, многоуважаемый господин Андермат, при исполнении наших обязанностей необходимы большой такт, большая корректность и сугубая осторожность, во избежание всяческих трений, которые могут привести к серьезным последствиям. Доктор Бонфиль, осведомленный о моем врачебном визите к вам, счел меня виновным в неблаговидном поступке – действительно, обстоятельства говорили против меня – и отозвался об этом в таких выражениях, что, если бы не его почтенный возраст, я бы вынужден был потребовать у него удовлетворения. Для того чтобы оправдать себя в его глазах и в глазах всей местной медицинской корпорации, у меня остается только один выход: как мне это ни прискорбно, я должен прекратить лечение вашей супруги, рассказать всю правду об этом деле, а вас просить принять мои извинения.
Андермат ответил в большом замешательстве:
– Я прекрасно понимаю, доктор, в каком затруднительном положении вы оказались. Но ни я, ни моя жена тут не виноваты, всему виной мой тесть – это он позвал доктора Бонфиля, не предупредив нас. Может быть, мне следует пойти к вашему коллеге и объяснить ему, что…
Доктор Латон перебил его:
– Это бесполезно, господин Андермат. Тут вопрос стоит о требованиях врачебной этики и чести, которые для меня непререкаемы, и несмотря на глубочайшее мое сожаление…
Андермат, в свою очередь, перебил его. Как человек богатый, как человек, который хорошо платит, которому ничего не стоит заплатить за врачебный совет пять, десять, двадцать или сорок франков, купить его, как покупают коробок спичек за три су; человек, уверенный, что все должно принадлежать ему по праву золотого мешка, знающий рыночную стоимость всего на свете, каждой вещи и каждого человеческого существа, признающий только эту стоимость и умеющий точно определить ее в денежном выражении, – он был возмущен дерзостью какого-то торговца рецептами и заявил резким тоном:
– Хорошо, доктор. На этом и покончим. Однако желаю вам, чтоб этот шаг не имел плачевных последствий для вашей карьеры. Еще посмотрим, кто больше пострадает от такого решения – вы или я.
Разобиженный доктор встал и, поклонившись с церемонной вежливостью, заявил:
– Конечно, я, милостивый государь! Нисколько в этом не сомневаюсь. Этот шаг будет мне стоить очень дорого во всех отношениях. Но если приходится выбирать между выгодой и совестью, я колебаться не привык!
И он вышел. В дверях он столкнулся с маркизом, который направлялся в гостиную, держа в руке какое-то письмо. Как только де Равенель остался с зятем один на один, он воскликнул:
– Послушайте, дорогой! Какая со мной произошла досадная неприятность, и притом по вашей вине! Доктор Бонфиль обиделся, что вы пригласили к Христиане его коллегу, и послал мне счет с весьма сухой запиской, предупреждая, чтобы я больше не рассчитывал на его услуги.
Тут Андермат совсем рассердился. Он забегал по комнате, кричал, жестикулировал, сыпал словами, взвинчивая себя все больше, в том безобидном и напускном негодовании, которого никто всерьез не принимает. Он выкрикивал свои доводы: кто во всем виноват? Кто? Только его тесть. С какой стати ему вздумалось пригласить Бонфиля, этого болвана, дурака набитого, даже не предупредив его, Андермата, тогда как он прекрасно был осведомлен через своего парижского врача о сравнительных достоинствах всех трех анвальских шарлатанов!
Да и какое право имел маркиз устраивать эту врачебную консультацию за спиной мужа? Ведь только муж может быть тут судьей, только он отвечает за здоровье своей жены! Словом, каждый день одно и то же! Вокруг него все делают глупости, одни только глупости! Он всегда, всегда об этом твердит. Но все его предупреждения – глас вопиющего в пустыне! Никто его не понимает, никто не верит его опытности и убеждаются в его правоте, когда уже все пропало.
Он выкрикивал «мой доктор», «моя опытность» тоном собственника-монополиста. Притяжательные местоимения звякали в его тирадах, как монеты. А когда он восклицал: «Моя жена!» – чувствовалась полнейшая его убежденность, что маркиз потерял все права на свою дочь, поскольку он, Андермат, на ней женился, то есть купил ее, – для него это были равнозначащие понятия.
В самый разгар спора в комнату вошел Гонтран и, усевшись в кресло, стал с веселой усмешкой слушать. Он ничего не говорил, он только слушал и потешался.
Когда наконец банкир умолк, чтоб перевести дух, шурин его поднял руку и сказал:
– Прошу слова! Вы оба остались без докторов? Верно? Не беда! У меня есть кандидатура. Предлагаю доктора Онора, единственного, который имеет свое собственное мнение об анвальских водах, точное и непоколебимое. Он предписывает больным их пить, но сам их пить не станет ни за какие блага! Хотите, я приведу его? Переговоры беру на себя.
Другого выхода не было. Гонтрана попросили немедленно привести доктора Онора – маркиза беспокоила мысль о перемене режима и лечения, и он желал сейчас же узнать мнение нового врача; Андермату не терпелось посоветоваться с ним относительно Христианы.
А Христиана слышала через тонкую стенку их разговоры, но не слушала, не понимала, о чем они говорят Как только муж вышел из ее комнаты, она соскочила с постели, отбежала от нее, точно от какого-то опасного места, и торопливо оделась без помощи горничной. После того, что произошло с ней вчера, в голове у нее все перемешалось.
Все теперь стало для нее совсем другим, все изменилось – и жизнь и люди. Снова послышался голос Андермата:
– А-а! Бретиньи! Здравствуйте, дорогой! Как поживаете?
Он уже не называл его «господином Бретиньи».
Второй голос ответил:
– Благодарю вас, очень хорошо, дорогой Андермат. Вы, что же, сегодня утром приехали?
У Христианы перехватило дыхание, когда она услышала голос Поля; она причесывалась в эту минуту и так и застыла с поднятыми руками. Она как будто видела через стену, как ее муж и Поль Бретиньи пожимают друг другу руки. От волнения ноги не держали ее, она села; волосы рассыпались у нее по плечам.
Теперь говорил Поль, и она вздрагивала всем телом при каждом его слове. Она не улавливала, не понимала смысла этих слов, но все они ударяли в сердце, как будто молотом били по нему.
И вдруг она произнесла почти громко: «Но ведь я люблю его… Я его люблю!» – как будто сделала вдруг неожиданное, поразительное открытие, нашла то, что могло ее утешить, спасти, оправдать перед собственной совестью. И она сразу же воспрянула духом, мгновенно приняла решение. Она снова стала причесываться и все повторяла шепотом: «У меня любовник, вот и все. У меня любовник». И, чтобы успокоить себя еще больше, избавиться от смятения и страха, она с пламенной убежденностью дала себе слово любить его всегда, беззаветной любовью, отдать ему свою жизнь, свое счастье, пожертвовать для него всем; следуя морали экзальтированных и побежденных сердец, в которых не заглох голос совести, она верила, что самоотверженная, преданная любовь все очищает.
И через стену, которая их разделяла, она посылала ему поцелуи. Все кончено, она отдает ему всю свою жизнь, как другие посвящают себя богу. Девочка, уже кокетливая, лукавая, но еще робкая и боязливая, вдруг умерла в ней – родилась женщина, созревшая для страстной любви, полная решимости и упорства, о которых до сих пор лишь смутно говорил твердый взгляд голубых глаз, придававший смелое и почти дерзкое выражение тонким чертам ее лица.
Скрипнула дверь, и Христиана, не обернувшись, не взглянув, каким-то особым, внезапно проснувшимся в ней чутьем угадала, что вошел муж.
Он спросил:
– Ты скоро оденешься? Мы хотим пойти навестить паралитика, посмотреть, действительно ли ему лучше.
Христиана ответила спокойно:
– Сейчас, дорогой Виль, через пять минут.
Из гостиной Андермата позвал Гонтран, уже успевший вернуться.
– Представьте, – рассказывал он, – встретил сейчас в парке доктора Онора, и этот болван тоже отказался лечить вас – из страха перед другими. Нес какую-то околесицу: установившиеся правила, обычаи, приличия, что скажут, что подумают… Словом, идиот, не лучше своих коллег. Вот уж, право, не думал, что он такая обезьяна!
Маркиз был потрясен. Мысль, что ему придется пользоваться водами без указаний врача, чего доброго, просидеть в ванне пять минут лишних, выпить одним стаканом меньше, чем полагается, приводила его в содрогание – он верил, что все дозы, часы, стадии лечения основаны на незыблемых законах природы, которая позаботилась о больных, создав минеральные источники, и открыла их загадочные тайны только врачам, вдохновенным и умудренным жрецам науки.
Он закричал:
– Да что ж это! Тут и умереть недолго!.. Подохнешь, как собака, и ни один из этих господ не побеспокоится!
Он кипел гневом, яростным гневом эгоиста, испугавшегося за свое драгоценное здоровье.
– Да какое они имеют право так поступать? Ведь они берут патент на врачебную практику, как лавочники-бакалейщики на свою торговлю! Мерзавцы! Надо их заставить! Они обязаны лечить всех, кто им платит; ведь обязан же кондуктор посадить в вагон всех пассажиров с билетами. Я напишу в газеты, я предам гласности это безобразие.
В волнении он шагал по комнате и вдруг остановился перед Гонтраном:
– Послушай, надо вызвать врача из Руайя или из Клермона! Что же, нам без докторов остаться?…
Гонтран засмеялся:
– Господам целителям из Руайя и Клермона не могут быть досконально известны свойства анвальской влаги – она воздействует на органы пищеварения и кровообращения несколько иначе, чем их местные воды. А кроме того, будь уверен, они тоже откажутся, чтобы не подумали, что они хотят урвать клочок сенца из кормушки своих собратьев.
Маркиз в ужасе забормотал:
– Как же теперь? Что с нами будет?
Андермат схватился за шляпу.
– Не волнуйтесь. Предоставьте все это мне, и ручаюсь, что нынче же вечером, – слышите, нынче же вечером! – все трое – да, да, все трое – будут юлить перед нами. А теперь пойдемте к паралитику.
Он крикнул:
– Христиана, ты готова?
Она показалась в дверях, очень бледная, напряженная. Поцеловавшись с отцом и братом, она повернулась к Полю и протянула ему руку; он взял ее, опустив глаза и дрожа от мучительной тревоги. Маркиз, Андермат и Гонтран вышли, оживленно разговаривая, не обращая на них внимания; Христиана устремила на Поля нежный, полный решимости взгляд и сказала твердо:
– Я принадлежу вам душой и телом. Теперь я вся в вашей власти.
И она вышла, не дав ему времени ответить.
Подходя к источнику Ориолей, они увидели широкополую шляпу старика Кловиса, как огромный гриб, торчавшую из ямы, где он дремал на солнышке в теплой воде. Он уже привык к своей горячей ванне, просиживал в ней теперь все утро и уверял, что от этого у него кровь играет, как у молоденького.
Андермат разбудил его:
– Ну что, дружок, идет дело?
Узнав своего хозяина, старик осклабился:
– Идет, идет, как по маслу!
– И вы уже ходить начинаете?
– Прыгаю, как кролик, хозяин, как кролик! Вот кончится месяц – в воскресенье пойду плясать бурре со своей милочкой.
У Андермата забилось сердце, он повторил:
– В самом деле? Уже ходите?
Старик перестал шутить:
– Ну, еще не очень, не шибко еще хожу. А все-таки полегчало.
Банкиру захотелось сейчас же посмотреть, как ходит старый калека, и он засуетился, забегал вокруг ямы, в волнении командовал, как будто собирался поднять со дна моря затонувший корабль:
– Гонтран, возьмите его за правую руку! Бретиньи, берите за левую! Я буду поддерживать сзади. Ну, взяли! Раз, два, три! Дорогой тесть, тяните за ногу. Да нет, не за эту, а за ту, которая в воде. Ох, скорей, пожалуйста! Больше не могу! Ну, дружно! Раз, два, три – готово! Ух!
Старика вытащили и посадили на землю, а он смотрел на господ с насмешливым видом и нисколько не помогал их усилиям.
Потом его опять подняли, поставили на ноги, подали костыли, которыми он теперь пользовался для опоры, как палками, и он зашагал, согнувшись под прямым углом, волоча ноги и страдальчески охая. Он тащился по дороге, как улитка, оставляя за собою длинную мокрую полосу на белой пыли.
Андермат от восторга захлопал в ладоши и закричал, как кричат в театре, вызывая актеров:
– Браво! Браво! Великолепно! Браво!!!
Но старик как будто уже совсем изнемог, и Андермат бросился поддержать его, обхватил обеими руками, хотя с лохмотьев Кловиса стекала вода, и взволнованно заговорил:
– Довольно, довольно, не утомляйтесь! Мы сейчас опять посадим вас в ванну.
Четыре господина взяли бродягу за руки и за ноги, понесли бережно, как драгоценный, хрупкий предмет, и снова погрузили в воду.
Тогда паралитик возгласил из ямы убежденным тоном:
– Что ни говори, хорошая вода! Этакой воды нигде не сыскать. Не вода, а сущий клад.
Андермат вдруг повернулся к тестю:
– Не ждите меня к завтраку. Я пойду сейчас к Ориолям и не знаю, когда освобожусь. Такие дела затягивать нельзя!
И он пошел торопливым шагом, почти побежал, весело помахивая тросточкой.
Остальные уселись напротив ямы старика Кловиса, под ивами, окаймлявшими дорогу. Христиана сидела рядом с Полем и смотрела на высокий холм, откуда она не так давно видела взрыв утеса. Тогда она сидела вон там, на этой порыжевшей траве. Недавно, месяц тому назад. Только месяц! Ей вспомнилось все до мелочей: и трехцветные зонтики, и поварята, и кто что говорил – каждое слово. И собака, бедная собачонка, растерзанная взрывом. И тот почти незнакомый высокий человек, который по одному ее слову бросился спасать собаку. А теперь он ее любовник! Ее любовник! А она его любовница, любовница! И она все повторяла про себя: «Любовница, любовница!» Какое странное слово! Вот этот человек, что сидит рядом с ней и обрывает былинки, стараясь прикоснуться к ее платью, этот человек теперь связан с нею близостью телесной и душевной, таинственными узами, о которых нельзя, стыдно говорить, теми узами, которыми природа соединяет мужчину и женщину.
И мысленно, тем немым, внутренним голосом, который кажется душе таким громким в безмолвном ее смятении, она без конца повторяла: «Я его любовница! Его любовница! Как все это странно, неожиданно».
«А люблю ли я его?» Она бросила на него быстрый взгляд. Глаза их встретились, и она почувствовала в его взгляде такую страстную, такую теплую ласку, что вся затрепетала. И вдруг у нее явилось желание дотронуться до его руки, игравшей травинками, неодолимое желание крепко сжать ему руку и все, все передать этим пожатием. Ее рука тихонько соскользнула с платья на траву и замерла, разжав пальцы. И тогда она увидела, как его рука осторожно приближается к ней, словно влюбленный зверек к своей подруге. Рука продвигалась все ближе и мизинцем дотронулась до ее мизинца. Кончики пальцев коснулись друг друга, чуть-чуть, едва заметно, отодвинулись, снова сблизились, словно губы в робком поцелуе. Но эта никому не видная ласка, эти легкие прикосновения врывались в нее такой бурной волной, что она изнемогала, как будто он снова сжимал ее в объятиях.
И она вдруг поняла, что значит «принадлежать» любимому человеку, ибо любовь все отдала во власть ему, и он завладел всем твоим телом, душой, мыслями, волей, всей кровью в жилах, всеми нервами – всем, всем, словно ширококрылый ястреб, схвативший в свои когти пичужку.
Маркиз и Гонтран с увлечением разговаривали о будущем курорта, заразившись энтузиазмом Вильяма Андермата. И оба восхищались банкиром: какой точный ум, какая деловая сметка, безошибочность в спекуляциях, смелость действий и удивительно ровный характер! Тесть и шурин, уверенные в успехе нового предприятия, в один голос воспевали Андермата и радовались такому родству.
Христиана и Поль Бретиньи, поглощенные друг другом, как будто и не слышали их.
Маркиз сказал дочери:
– А знаешь, детка, ты, пожалуй, в один прекрасный день будешь одной из самых богатых женщин во всей Франции, твоя фамилия будет известна, как фамилия Ротшильдов. Виль – в самом деле замечательный, выдающийся человек, человек большого ума!
Странное, ревнивое чувство вдруг шевельнулось в душе Поля.
– Ах, оставьте, – сказал он. – Знаю я, что за ум у всех этих дельцов. У них только одно в голове – деньги! Все мысли, которые мы отдаем прекрасному, всю энергию, которую мы растрачиваем на прихоти, все часы, которые мы теряем на развлечения, все силы, которые мы расточаем на удовольствия, весь страстный, могучий жар души, который поглощает у нас любовь, дивное чувство любви, они употребляют на погоню за золотом и думают только о золоте, загребают золото! Человек тонкого ума живет бескорыстными, высокими интересами, его радости – это искусство, любовь, наука, путешествия, книги, а если он добивается и денег, то лишь потому, что они облегчают возможность духовных наслаждений и даже сердечного счастья. А эти люди? Что у них в сердце и в уме? Ничего, кроме гнусной страсти к наживе! Эти стяжатели так же похожи на «выдающихся людей», как барышник, промышляющий картинами, похож на художника, как делец-издатель похож на писателя, а директор театра – на драматурга.
Но вдруг он оборвал свою тираду, поняв, что в увлечении позабыл о приличиях, и сказал уже спокойным тоном:
– Я это не про Андермата говорю, его я считаю весьма приятным человеком, во сто раз лучше других деловых людей. Он мне очень нравится…
Христиана убрала руку. Поль опять умолк.
Гонтран захохотал и ехидным, издевательским тоном, которым он в минуту откровенности мог выпалить что угодно, сказал:
– Как бы там ни было, милый мой, а у этих господ есть редкое достоинство, большое достоинство: они женятся на наших сестрах и производят на свет богатых дочерей, на которых женимся мы.
Маркиз поднялся в негодовании:
– Ах, Гонтран! Ты иной раз бываешь просто невыносимым!
А Поль, повернувшись к Христиане, прошептал:
– Способны ли эти люди умереть за женщину или хотя бы отдать ей все свое состояние… все, ничего не оставив себе?
Слова эти так ясно говорили: «Все, что у меня есть, даже моя жизнь, принадлежит вам», – что Христиана была растрогана и ловко нашла предлог, чтобы взять его за руки.
– Встаньте и помогите мне подняться. У меня затекли ноги, пошевелиться не могу.
Он вскочил и, потянув ее за руки, поставил у края дороги, почти вплотную к себе. Она видела, как губы его шепчут: «Люблю вас», – и быстро отвернулась, чтобы не повторить в ответ те же слова, которые неудержимо рвались из ее груди в порыве нежности, повлекшей ее к нему.
Потом все вернулись в отель.
На ванны уже было поздно идти. Стали дожидаться завтрака. Зазвенел колокол, созывая к столу, но Андермат все не возвращался. Прогулялись по парку и решили сесть за стол без него. Завтрак, как всегда, тянулся очень долго, но и к концу его банкир не появился. Все опять спустились в парк посидеть под деревьями. Проходил час за часом, солнце скользило по листве, склоняясь к горам, день уже был на исходе, а Вильям Андермат все не возвращался.
Вдруг он показался на дорожке. Он шел быстрым шагом, держа в одной руке шляпу, а другой вытирая лоб носовым платком; галстук у него съехал набок, жилет расстегнулся, и весь вид был, точно он вернулся после долгого пути, рукопашной схватки, какого-то длительного и тяжкого напряжения сил.
Увидев тестя, он закричал:
– Победа! Скрутил старика! Но что это был за день, друзья мои, что за день! Помаяла меня эта старая лисица!
И он принялся рассказывать о своем сражении и подвигах.
Ориоль-отец сперва предъявил такие непомерные требования, что он, Андермат, прервал переговоры и ушел. Тогда его вернули. Продавать землю Ориоль не соглашался, а хотел передать ее в пользование акционерному обществу с правом получить обратно в случае неудачи. В случае же успеха давайте ему половину прибылей!
Банкиру пришлось подсчитывать на бумаге, набрасывать план земельных участков, доказывать, что все вместе они стоят не больше восьмидесяти тысяч франков, меж тем как акционерное общество с самого начала должно затратить миллион.
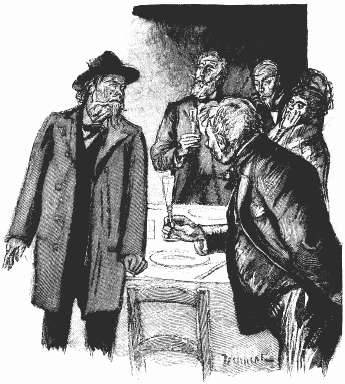
Старый овернец возразил, что он стоимость своих участков исчисляет иначе, цена им будет огромная, когда на них построят лечебницу и гостиницы, и он свою выгоду знает; считать надо не по теперешней стоимости, а по той, которую участки приобретут в дальнейшем.
Тогда Андермат сказал, что возможная большая прибыль бывает пропорциональна большому риску, и припугнул его опасностью убытков.
В конце концов пришли к такому соглашению: Ориоль-отец передает акционерному обществу в качестве своего пая все участки по берегам ручья, то есть как раз те, где есть надежда найти минеральные источники, а кроме того, вершину холма, где предполагается построить казино и отель, и еще несколько виноградников по склону холма, которые надо будет разбить на мелкие участки и преподнести виднейшим парижским врачам.
За этот пай, оцененный в двести пятьдесят тысяч франков, то есть почти в четыре раза дороже его действительной стоимости в настоящее время, крестьянину будут выплачивать четвертую часть всех прибылей общества. А так как земли у него еще остались в десять раз больше и вся она расположена вокруг будущего ванного заведения, то в случае успеха курорта хитрый овернец, несомненно, наживет целое состояние, продавая клочками эту землю, которую он, по его словам, предназначил в приданое своим дочерям.
Как только договорились на таких условиях, Вильяму Андермату пришлось потащить отца и сына к нотариусу – составить запродажную с оговоркой, что сделка аннулируется, если минеральная вода не будет найдена в достаточном количестве.
Составление запродажной, придирчивое обсуждение каждого пункта, бесконечные повторения, пережевывание одних и тех же доводов – словом, нудная канитель тянулась до вечера.
Но теперь все было кончено. Банкир мог строить курорт. Однако он досадовал:
– Придется ограничиться водой, а земельные операции ухнули! Поймал меня этот хитрец.
Но тут же сообразил:
– Погодите! А старое общество? Вот на чем можно отыграться… Но это потом, а сегодня вечером надо ехать в Париж.
Маркиз удивленно воскликнул:
– Как! Сегодня же вечером?
– Ну конечно, мой дорогой. Надо ведь подготовить все документы для окончательной сделки, пока Обри-Пастер будет вести здесь разведывательное бурение. Да еще надо устроить так, чтобы через две недели, не позже, можно было приступить к работам. Нельзя терять ни одного часа. Кстати, предупреждаю: вы член правления моего общества, мне надо иметь подавляющее большинство. Даю вам десять акций. И вам, Гонтран, десять акций.
Гонтран засмеялся:
– Покорнейше благодарю. Позвольте продать их вам обратно. За вами, значит, пять тысяч.
Но Андермат нахмурился – что за шутки в важных делах? – и сухо сказал:
– Бросьте дурачиться. Если не хотите, я к другим обращусь.
Гонтран присмирел:
– Ну что вы, дорогой! Вы же знаете, я всецело в вашем распоряжении.
Банкир повернулся к Полю:
– Дорогой господин Бретиньи, не согласитесь ли оказать мне дружескую услугу? Прошу и вас принять десяток акций и тоже войти в правление.
Поль, поклонившись, ответил:
– Разрешите отказаться от вашего лестного предложения и по-настоящему вступить в дело. Я считаю ваше начинание блестящим и охотно вложу в него сто тысяч франков. Это будет любезность не с моей, а с вашей стороны.
Вильям Андермат в бурном восторге пожимал ему руки: такое доверие совсем покорило его сердце. Впрочем, он всегда готов был кинуться на шею каждому, кто вносил деньги в его предприятия.
Но Христиана вся вспыхнула, покраснела до корней волос, так ей было неприятно. Ей показалось, что сейчас состоялась сделка купли-продажи: один купил ее, другой продал. Разве Поль предложил бы ее мужу сто тысяч франков, если бы не любил ее? Нет, конечно! И хоть бы он сделал это не при ней…
Позвонили к обеду. Все направились к гостинице. Как только сели за стол, г-жа Пайль-старшая сказала Андермату:
– Так вы основываете новый курорт?
Новость уже разнеслась по всему Анвалю, стала предметом всех разговоров, взбудоражила всех больных.
Вильям Андермат ответил:
– Боже мой, ну разумеется! Существующий курорт из рук вон плох.
И, повернувшись к Обри-Пастеру, сказал:
– Извините, пожалуйста, многоуважаемый господин Обри-Пастер, что я за столом буду говорить с вами о делах, но время не терпит: я сегодня вечером уезжаю в Париж, а у меня есть к вам предложение. Не согласитесь ли вы руководить разведывательными работами, чтобы найти максимальное количество минеральной воды?
Польщенный инженер согласился, и среди всеобщего молчания они в несколько минут договорились, в каких местах и как производить разведку, которая должна была начаться немедленно. Все было обсуждено и решено с той четкостью и точностью, какие Андермат всегда вносил в свои дела. Потом заговорили о паралитике. Днем многие видели, как он проходил через парк, опираясь только на одну палку, тогда как утром еще пользовался двумя. Банкир восклицал:
– Да это чудо! Настоящее чудо! Излечение пошло гигантскими шагами!
Поль в угоду мужу Христианы подхватил:
– Нет, это сам папаша Кловис пошел гигантскими шагами.
За столом пробежал одобрительный смешок. Все глаза были устремлены на Андермата, из всех уст неслись льстивые возгласы. Официанты теперь подносили кушанье ему первому, с раболепной почтительностью в лице и в движениях, мгновенно исчезавшей, когда они подавали блюдо его соседям.
Один из официантов принес ему на тарелке визитную карточку. Андермат взял ее и прочел вполголоса: «Доктор Латон из Парижа был бы счастлив побеседовать несколько минут с господином Андерматом до его отъезда».
– Передайте, что у меня сейчас нет времени, но через неделю или дней через десять я вернусь.
И тут же Христиане принесли огромный букет цветов от доктора Онора.
Гонтран смеялся:
– Двое готовы. Только старикашка Бонфиль еще не сдается.
Обед подходил к концу. Андермату доложили, что его ждет ландо. Он поднялся к себе за дорожной сумкой, а когда вышел из гостиницы, увидел, что у крыльца собралась половина села. Петрюс Мартель подскочил пожать Андермату руку и с актерской фамильярностью зашептал ему на ухо:
– У меня есть замечательное, потрясающее предложение, очень выгодное для вашего дела.
Вдруг появился доктор Бонфиль, как всегда спешивший куда-то. Он прошел мимо Андермата, отвесив ему низкий поклон, каким до сих пор удостаивал только маркиза, и сказал:
– Счастливого пути, барон!
– Проняло! – пробормотал Гонтран.
Андермат, торжествуя, пыжился от радости и гордости, пожимал направо и налево руки, восклицал: «До свидания! До свидания!» – и чуть было не позабыл проститься с женой, настолько все его мысли были заняты делами. От этого равнодушия Христиане стало легче на душе, и, когда она увидела, как пара лошадей подхватила коляску и понесла ее крупной рысью по дороге, в сумеречную даль, ей показалось, что теперь уж до конца жизни никого не надо будет бояться.
Весь вечер она провела на скамейке перед гостиницей, сидя между отцом и Полем Бретиньи; Гонтран, по своему обыкновению, отправился в казино.
Христиане не хотелось ни двигаться, ни говорить; она сидела, не шевелясь, сложив руки на коленях, и глядела в темноту, томная и слабая, немного настороженная и все же счастливая; она почти ни о чем не думала, даже не мечтала, и, когда минутами ее тревожили смутные укоры совести, она отгоняла их все одним и тем же заклинанием: «Я люблю его! Люблю его! Люблю!»
Она рано ушла к себе, чтобы побыть одной и помечтать. Закутавшись в широкий пеньюар, она села в кресло у открытого окна и стала смотреть на звезды, а в раме окна перед ее внутренним взором поминутно вставал образ того, кто завладел ею. Она так ясно видела его, доброго, нежного и необузданного, такого сильного и такого покорного перед нею. Да, этот человек завладел ею навсегда, на всю жизнь – она чувствовала это. Теперь она уже не одинока, их двое – два сердца, слившиеся воедино, две слившиеся воедино души. Где он был сейчас, она не знала, но хорошо знала, что и он думает, мечтает о ней. Она как будто слышала, как на каждое биение ее сердца где-то отвечает другое сердце. Она чувствовала, как вокруг нее, словно птица, задевая ее крылом, реет желание, страстное желание, она чувствовала, как проникает в окно это пламенное желание, исходящее от него, ищет ее, молит в ночной тишине. Как хорошо, как сладко, как ново было для нее чувствовать, что она любима! Как радостно было думать о ком-то с такой глубокой нежностью, что слезы навертывались на глаза, и плакать от умиленного счастья! Ей хотелось открыть объятия тому, кого не было перед нею, послать ему призыв, открыть объятия навстречу его образу, возникавшему перед глазами, навстречу поцелуям, которые он непрестанно слал ей где-то вдали или вблизи, сгорая в лихорадке ожидания.
И она протянула руки в откинувшихся белых рукавах пеньюара ввысь, к звездам. Вдруг она вскрикнула. Большая черная тень, перешагнув через перила балкона, внезапно появилась в окне.
Она вскочила, замирая от страха. Это был он! И, даже не подумав о том, что их могут увидеть, она бросилась к нему на грудь.
ГЛАВА VIII
Отсутствие Андермата затянулось. Обри-Пастер вел изыскания. Он нашел еще четыре источника, которые могли дать новому акционерному обществу вдвое больше воды, чем требовалось. Весь округ был в волнении от этих разведок, от этих открытий, от важных новостей, мгновенно перелетавших из уст в уста, от нежданных блестящих перспектив; все суетились, восторгались, только и говорили что о будущем курорте, только о нем и думали. Даже маркиз и Гонтран проводили целые дни около рабочих, буривших гранитные породы, и со все возраставшим любопытством слушали объяснения инженера и его поучительные рассказы о геологическом строении Оверни. Теперь Поль и Христиана могли совершенно свободно, спокойно любить друг друга: никто ими не интересовался, никто ничего не подозревал, никому и в голову не приходило шпионить за ними, – все любопытство, все внимание людей, все их чувства поглощены были будущим курортом.
С Христианой происходило то же, что бывает с юношей, впервые опьяневшим от вина. Первый глоток – первый поцелуй – обжег, одурманил ее. Второй бокал она выпила залпом и нашла, что он лучше, а теперь она пила жадными большими глотками и была пьяна любовью.
С того вечера, когда Поль проник в ее комнату, она жила, как в угаре, не сознавая того, что происходит вокруг. Время, вещи, люди теперь не существовали для нее. На земле и в небе был только один-единственный человек – тот, кого она любила. Глаза ее видели только его, все мысли были только о нем, все надежды устремлялись только к нему. Она жила, двигалась, ела, одевалась, как будто слушала, что ей говорят, отвечала, но ничего не понимала, не сознавала, что делает. И ничто теперь ее не страшило: никакое несчастье не могло ее сразить – она ко всему стала нечувствительна! Никакая телесная боль не могла затронуть тело, подвластное только трепету любви. Никакие душевные страдания не могли коснуться завороженной души.
А он любил ее с той восторженностью, какую вносил во все свои страстные увлечения, и доводил ее чуть не до безумия. Часто в конце дня, зная, что маркиз и Гонтран пошли к источнику, он говорил:
– Пойдемте навестим наш небесный уголок.
Он называл их «небесным уголком» еловую рощицу, зеленевшую на горном склоне, над самым ущельем. Они поднимались туда через молодой лес по крутой тропинке и шли так быстро, что Христиана задыхалась, но им надо было спешить, так как времени было мало. Чтобы ей легче было идти, он поддерживал ее за талию, подхватывал, приподнимал; и, положив ему руку на плечо, она опиралась на него, а иногда, обняв за шею, приникала поцелуем к его губам. Они всходили все выше, выше, воздух свежел, ветер овевал им лица, и, когда они достигали елей, их обдавало запахом смолы, живительным, как дыхание моря.
Они садились под темными деревьями – она на мшистом бугорке, он ниже, у ее ног. Ветер пел в ветвях. Стволы звенели под ветром тихою песней, всегда чем-то похожей на кроткую жалобу, а бескрайний простор Лимани, уходивший в невидимые дали, затянутые легкой дымкой тумана, действительно создавал впечатление океана. Да, конечно, там внизу простиралось море, никакого сомнения быть не могло, – они чувствовали его дуновение на своем лице!
Поль ласкался к ней и по-детски шаловливо говорил:
– Дайте-ка мне ваши пальчики. Я их съем, это мои любимые конфеты.
Он брал в рот один ее палец за другим и делал вид, что ест их, млея от наслаждения, как жадный лакомка.
– Ах, какие вкусные! В особенности мизинчик. Ничего на свете не может быть вкуснее.
Потом он становился на колени и, опираясь локтями о ее колени, шептал:
– Лиана, посмотрите на меня.
Он звал ее Лианой, потому что она обвивала его руками, как лиана обвивает ствол дерева.
– Посмотрите на меня. Я хочу заглянуть вам в душу.
Они смотрели друг на друга неподвижным, пристальным взглядом, и в нем как будто сливались воедино. Он говорил:
– Настоящая любовь – это когда вот так принадлежишь друг другу, все остальное – только игра в любовь.
Сблизив лица так, что дыхание их смешивалось, они искали друг друга в прозрачной глубине глаз.
Он шептал:
– Я вижу вас, Лиана. Любимая, я вижу ваше сердце!
Она отвечала:
– И я вас вижу, Поль, я тоже вижу ваше сердце!
И они действительно видели друг друга, проникали в самую глубину души и сердца, потому что у обоих в душе и сердце была только любовь, исступленный порыв любви друг к другу.
Он говорил:
– Лиана, у вас глаза, как небо! Такие же голубые, ясные, чистые, и столько в них света! Мне кажется, я вижу, как в них проносятся ласточки! Это, наверно, ваши мысли, Лиана. Да?
Они долго-долго смотрели друг на друга, а потом придвигались еще ближе, обменивались тихими поцелуями и после каждого поцелуя снова смотрели друг на друга. Иногда он брал ее на руки и бежал по берегу ручья, стекавшего к Анвальскому ущелью и водопадом низвергавшегося в него. В этой узкой долине чередовались луга и перелески. Поль бежал по траве и, поднимая на вытянутых сильных руках свою ношу, кричал:
– Лиана, улетим!
Восторженная, страстная любовь рождала в них это упорное, непрестанное, мучительное желание улететь прочь от земли. И все вокруг обостряло в них это стремление души: и прозрачный легкий воздух – крылатый воздух, как говорил Поль, и голубоватые широкие дали, куда им хотелось унестись вдвоем, держась за руки, и исчезнуть в высоте над этой беспредельной равниной, когда ее покроет ночная тьма. Улететь бы вдвоем в мглистое вечернее небо и никогда, никогда не возвращаться! Куда улететь? Они не знали. Но как их манила эта мечта!
Он бежал, держа ее на руках, пока хватало дыхания, потом опускал на выступ утеса и становился перед нею на колени. Он целовал ей ноги, он поклонялся ей, шептал детские, нежные слова.
Если б они любили друг друга в городе, страсть их была бы, вероятно, иной – более осторожной, более чувственной, не такой воздушной и романтической. Но здесь, в этом зеленом краю, среди просторов, где душа ширилась и рвалась куда-то, одни, вдали от всего, что могло бы отвлечь их от захватившего их безрассудного чувства, они очертя голову ринулись в это поэтическое безумие страсти. И вся природа вокруг них, теплый ветер, леса, ароматный вольный воздух днем и ночью пели им песню любви, и мелодия эта сводила их с ума, как звуки бубна и пронзительный визг флейты приводят в исступление дервиша, который неистово кружится во власти навязчивой мысли.
Однажды вечером, когда они вернулись в отель к ужину, маркиз вдруг сказал им:
– Через четыре дня возвращается Андермат. Он уже уладил все дела. А после этого, на следующий день, мы уедем. Мы что-то зажились здесь. Не полагается чересчур затягивать курортный сезон.
Они были ошеломлены этими словами, как будто им возвестили, что завтра настанет конец света. За столом оба молчали, в растерянности думая, что же теперь будет. Значит, через несколько дней надо расстаться и уж больше нельзя будет встречаться свободно. Это казалось им таким невероятным, таким нелепым, что они не могли себе представить, как же это возможно.
Действительно, Андермат приехал в конце недели. Он телеграфировал, чтобы к первому утреннему поезду выслали два экипажа. Христиана не спала всю ночь, взволнованная каким-то странным, новым для нее чувством – страхом перед мужем и вместе с тем гневом, необъяснимым презрением к нему и желанием бросить ему вызов. Она поднялась с постели на рассвете, оделась и стала его ждать. Он подъехал в первой коляске, в ней сидело еще трое – какие-то весьма приличные, хорошо одетые господа, державшиеся, однако, очень смиренно. Во второй коляске приехало еще четверо, по виду рангом пониже. Маркиз и Гонтран удивились. Гонтран спросил:
– Что это за люди?
Андермат ответил:
– Мои акционеры. Мы сегодня учредим акционерное общество и тут же выберем правление.
Он поцеловал жену, не сказав ей ни слова, едва взглянув на нее, так он был озабочен, и, повернувшись к семерым приезжим, стоявшим у крыльца в почтительном молчании, скомандовал:
– Велите подать себе завтрак, а потом прогуляйтесь. Встретимся здесь в полдень.
Все семеро двинулись разом, без слов, как солдаты по команде офицера, поднялись парами по ступенькам крыльца и исчезли в дверях гостиницы.
Гонтран, следивший за их шествием, спросил с серьезным видом:
– Где вы откопали этих статистов?
Банкир улыбнулся:
– Вполне приличные люди. Биржевики, капиталисты.
И, помолчав, добавил, улыбаясь уже во весь рот:
– Занимаются моими делами.
Затем он поспешил к нотариусу, чтобы еще раз проглядеть документы и акты, хотя заранее прислал их совершенно готовыми.
В нотариальной конторе он встретился с доктором Латоном, с которым за время своего отсутствия успел обменяться несколькими письмами, и они долго шептались в углу, пока писцы царапали перьями по бумаге, как будто по ней бегали и шуршали какие-то проворные насекомые.
Учредительное собрание акционеров было назначено в два часа.
В кабинете нотариуса сделали приготовления, словно для концерта. Напротив стола, где должен был восседать нотариус Ален вместе со старшим письмоводителем, были выстроены в два ряда стулья для акционеров. Ввиду важности события Ален нарядился во фрак, уморительно облегавший его круглую, как шарик, фигурку. Этот низенький, шамкающий старичок похож был на фрикадельку из белого куриного мяса.
Как только пробило два часа, в кабинет вошел Андермат в сопровождении своего тестя, шурина, Поля Бретиньи и свиты из семерых приезжих, которых Гонтран назвал статистами. У Андермата был вид полководца. Вскоре после этого прибыл старик Ориоль со своим Великаном – у обоих вид был встревоженный, недоверчивый, как и у всех крестьян, когда им надо подписывать бумаги. Последним явился доктор Латон. Он помирился с Андерматом, принеся ему в искусно закругленных фразах почтительные извинения, за которыми последовали изъявление полной, безоговорочной, беспрекословной покорности и предложение услуг.
В ответ банкир, чувствуя, что держит его в руках, пообещал ему завидную должность главного врача на новом курорте.
Когда все собрались, наступило глубокое молчание. Наконец нотариус сказал:
– Прошу садиться, господа.
Он прошамкал еще несколько слов, которых никто не расслышал в шуме передвигаемых стульев.
Андермат вытащил для себя из шеренги один стул и устроился напротив своего отряда, чтобы можно было следить за ним, а когда все уселись, взял слово.
– Господа! Нет необходимости подробно излагать вам цель настоящего собрания. Прежде всего нам нужно учредить новое акционерное общество, в которое вы пожелали вступить пайщиками. Следует, однако, упомянуть о некоторых затруднениях, доставивших нам немало хлопот. Прежде чем предпринимать что-либо, я должен был иметь уверенность, что мы добьемся необходимого разрешения для основания нового общественно полезного учреждения. Эта уверенность у меня теперь есть. Все, что еще остается сделать в этом смысле, я беру на себя. Я уже заручился обещанием министра. Но меня останавливает другая трудность. Нам, господа, придется вести борьбу со старым акционерным обществом Анвальских минеральных вод. Я не сомневаюсь, что борьба эта принесет нам победу – победу и богатство. Но как в битвах прежних времен воинам нужен был боевой клич, так и нам в современном сражении нужен свой клич – название нашего курорта, название звучное, заманчивое, удобное для рекламы, действующее на слух, как звук фанфары, и на глаз, как блеск молнии. Однако мы, господа, находимся в Анвале и не можем произвольно окрестить по-новому этот край. Нам остается только один выход: дать новое наименование курорту, только курорту.
И вот что я предлагаю.
Наша лечебница будет построена у подножия холма, который является собственностью господина Ориоля, присутствующего здесь; наше будущее казино мы воздвигнем на вершине того же самого холма. Итак, с полным правом можно сказать, что этот холм, вернее эта гора, – ибо это настоящая, хоть и небольшая гора, – представляет собою основу нашего предприятия, ведь мы владеем ее подножием и ее гребнем. А посему я считаю вполне естественным, чтобы мы назвали наше предприятие «Источники Монт-Ориоля», и таким образом название нашего курорта, который станет одним из знаменитейших курортов мира, будет связано с именем первого его владельца. Воздадим кесарево кесарю.
И заметьте, господа, что это наименование звучит великолепно. Будут говорить: «Монт-Ориоль», так же как говорят: «Мон-Дор». Начертание его радует глаз, звучание ласкает слух, его видишь, его слышишь, оно врезается в память: Монт-Ориоль! Монт-Ориоль! Источники Монт-Ориоля!..
И Андермат то произносил это название нараспев, то бросал его скороговоркой, как мячик, напряженно вслушиваясь, как оно звучит. Он даже разыгрывал диалоги в лицах:
«– Вы едете на воды в Монт-Ориоль?
– Да, сударыня. Говорят, воды Монт-Ориоля бесподобны!
– О да, в самом деле превосходные воды! И к тому же Монт-Ориоль – дивная местность».
Он улыбался, менял интонации, изображая дамский разговор, помахивал пухлой рукой, изображая приветственный жест мужчины. Потом сказал уже естественным голосом:
– Есть у кого-нибудь возражения?
Акционеры хором ответили:
– Нет, нет! Никаких возражений!
Трое из статистов даже зааплодировали.
Старик Ориоль, взволнованный, покоренный, польщенный в своей тайной гордости разбогатевшего крестьянина, смущенно вертел в руках шляпу, улыбался и невольно кивал головой, словно говорил: «Да, да!» – выдавая свою радость, и Андермат, как будто и не смотревший на него, прекрасно это подметил.
Великан сидел с виду равнодушный, бесстрастный, но доволен был не меньше отца.
Андермат сказал нотариусу:
– Огласите, пожалуйста, устав, мэтр Ален.
Нотариус повернулся к письмоводителю:
– Начинайте, Марине.
Марине, чахоточный заморыш, кашлянул и с интонациями проповедника, с декламаторскими потугами начал читать пункты и параграфы устава акционерного общества «Водолечебное заведение Монт-Ориоль» в Анвале с учредительным капиталом в два миллиона.
Старик Ориоль перебил его:
– Погоди, погоди малость!
И вытащил из кармана засаленную тетрадку, за одну неделю побывавшую в руках всех нотариусов, всех ходатаев по делам, всех поверенных департамента. Это была копия устава, которую сам Ориоль и его сын почти уже затвердили наизусть.
Старик не спеша нацепил на нос очки, откинул голову, отодвинул от глаз тетрадку, отыскивая расстояние, с которого буквы лучше видны, и сказал:
– Валяй, Марине.
Великан пододвинул стул и стал следить по тетрадке вместе с отцом.
Марине опять начал читать сначала. Старик Ориоль, которого сбивала с толку необходимость и читать и слушать одновременно, терзаясь страхом, как бы не подменили какое-нибудь слово другим, пытаясь следить, не делает ли Андермат каких-нибудь знаков нотариусу, на каждой строчке по десять раз останавливал письмоводителя и срывал все его ораторские эффекты.
Он поминутно говорил:
– Ты что сказал? Как ты сказал? Я не расслышал. Помедленней читай.
И, слегка обернувшись к сыну, спрашивал:
– Так он, что ль, читает. Великан? Правильно?
Великан, лучше владевший собой, успокаивал его:
– Так, так, отец. Оставь. Все правильно!
Однако старик овернец не мог успокоиться. Он водил по строчкам крючковатым пальцем, бормотал себе под нос, но внимание его не могло раздваиваться: если он слушал, то не в состоянии был читать, если читал, то не слышал, что говорит письмоводитель. Он пыхтел, как будто поднимался в гору, и обливался потом, как будто мотыжил виноградник в палящую жару; время от времени он требовал остановки, чтобы вытереть мокрый лоб и перевести дух, словно борец в рукопашной схватке.
Андермат нетерпеливо постукивал ногой об пол. Гонтран, заметив на столе нотариуса номер Вестника Пюи-де-Дом, взял его и рассеянно пробегал глазами. А Поль, сидя верхом на стуле, опустив голову, с болью в сердце думал о том, что вот этот румяный человечек с круглым брюшком, сидящий напротив него, завтра увезет женщину, которую он, Поль Бретиньи, любит всей душой, – Христиану, его Христиану, его белокурую Христиану, хотя она принадлежит ему, Полю Бретиньи, всецело принадлежит ему, только ему. И он задавался вопросом, не похитить ли ее сегодня же вечером?
Семеро статистов сидели смирно, с серьезным и важным видом.
Через час чтение кончилось. Устав подписали.
Нотариус составил акт капиталовложений, затем обратился с вопросом к казначею Аврааму Леви, и тот подтвердил, что получил все вклады. Затем акционерное общество объявлено было законно существующим, и тут же открылось общее собрание акционеров-учредителей для выбора правления и председателя.
Председателем единодушно был избран Андермат – всеми голосами против двух. Двое отколовшихся – старик овернец и его сын – предлагали выбрать в председатели Ориоля-отца. Бретиньи был выбран ревизором.
Затем правление, составленное из Андермата, маркиза де Равенеля, графа Гонтрана де Равенеля, Поля Бретиньи, обоих Ориолей, доктора Латона, Авраама Леви и Симона Зидлера, попросило остальных акционеров, а также нотариуса и письмоводителя удалиться, и началось обсуждение наиболее важных, неотложных мероприятий.
Андермат вновь поднялся:
– Господа! Теперь мы вплотную подошли к самому животрепещущему вопросу: каким путем добиться успеха, который мы с вами должны завоевать во что бы то ни стало? Минеральные воды – такой же товар, как и прочие. Хотите найти на них потребителей – надо, чтобы о них говорили, говорили везде и очень веско.
Господа! Реклама – важнейшая проблема нашего времени. Реклама – это бог современной торговли и промышленности. Вне рекламы нет спасения. Однако реклама – это искусство весьма нелегкое, сложное, требующее большого такта. Пионеры этого двигателя деловой жизни применяли очень грубые приемы, привлекали внимание публики, так сказать, барабанным боем и пушечной пальбой. Но ведь знаменитый Манжен был только зачинателем. А в наши дни шумиха кажется подозрительной. Кричащие афиши вызывают теперь усмешку, имена, о которых трубят на всех перекрестках, скорее пробудят недоверие, чем любопытство. А между тем нам так или иначе надо привлечь внимание публики – сначала поразить ее, потом убедить. Искусство рекламы как раз в том и состоит, чтобы найти единственно верный для этого способ, различный для каждого вида товара. Мы с вами, господа, собираемся торговать минеральной водой. Следовательно, мы можем покорить, завоевать больных только через докторов.
Врачи, даже самые знаменитые, – такие же люди, как и мы, грешные, с такими же слабостями. Я не хочу сказать, что их можно купить. Репутация знаменитостей медицинского мира, которые нам нужны, безупречна, никто не посмеет их заподозрить в продажности. Но существует ли на свете такой человек, которого нельзя было бы прельстить, – конечно, если взяться за дело умеючи. Ведь попадаются женщины, которых невозможно купить, – ну что ж, их можно обольстить!
Вот, господа, какое я вношу предложение, тщательно обсудив его с доктором Латоном.
Прежде всего мы разбили на три основные группы болезни, подлежащие излечению на нашем курорте. Первая группа – все виды ревматизма, лишаи, артриты, подагра и так далее. Вторая группа – болезни желудка, кишечного тракта и печени. Третья группа – все недомогания, вызванные неправильным кровообращением, так как совершенно бесспорно, что наши углекислые ванны оказывают самое благотворное действие на кровообращение.
Заметьте, господа, что чудесное исцеление старика Кловиса обещает нам чудеса.
Итак, определив болезни, излечиваемые нашими водами, мы обратимся к крупнейшим врачам, специалистам по этим болезням, со следующим предложением: «Господа, – скажем мы им, – приезжайте, убедитесь сами, убедитесь воочию, приезжайте с вашими пациентами, понаблюдайте за действием наших вод. Мы предлагаем вам погостить у нас. Местность у нас красивейшая, вам надо отдохнуть после тяжких трудов, утомивших вас в зимние месяцы. Приезжайте, милости просим. И знайте, господа профессора, вы приедете, собственно говоря, не к нам, а к себе домой, на свои дачи. Стоит вам пожелать, и вы приобретете их в полную собственность на самых сходных условиях».
Андермат остановился, перевел дух и продолжал свою речь уже более спокойным, деловым тоном:
– Вот как я думаю осуществить этот план. Мы выбрали шесть участков, каждый по тысяче квадратных метров. Бернское акционерное общество сборных швейцарских домиков обязуется построить на всех этих участках однотипные дачи. Мы бесплатно предоставим эти уютные и красивые жилища в распоряжение приглашенных нами врачей. Если им понравится там, они купят при желании эти дома у Бернского акционерного общества – только дома, а землю мы безвозмездно преподнесем им в собственность… Они нам заплатят за это… больными. Мероприятие, господа, выгодное во всех отношениях: на территории курорта вырастут нарядные виллы, которые ничего нам не будут стоить, мы привлечем к себе светил медицинского мира и полчища их пациентов, а главное, убедим крупных врачей в целительном действии наших вод, и эти знаменитости в самом скором времени станут здесь дачевладельцами. Переговоры, которые должны привести нас к таким результатам, я берусь осуществить не как делец-спекулянт, а как светский человек.
Старик Ориоль перебил Андермата. Вся его овернская скаредность восстала против даровой раздачи земли.
Андермат вознесся на вершины красноречия, он противопоставил разумного землепашца, который щедрой рукой бросает семена в плодородную почву, хозяину-скопидому, который считает каждое зернышко и поэтому всегда собирает лишь самый скудный урожай.
Разобиженный крестьянин заупрямился, тогда Андермат поставил вопрос на голосование, и результаты его заткнули рот Ориолю. Шесть голосов против двух.
Затем Андермат извлек из большого сафьянового портфеля планы новой водолечебницы, отеля и казино, сметы и контракты с подрядчиками, заготовленные для утверждения и подписи на настоящем заседании. Работы должны были начаться уже на следующей неделе.
Только отец и сын Ориоли потребовали рассмотрения и обсуждения всех этих документов. Андермат раздраженно воскликнул:
– Разве я прошу у вас денег? Ведь нет? Ну так оставьте меня в покое! А если вы недовольны, давайте голосовать.
Ориолям пришлось подписаться вместе с остальными членами правления, и заседание было закрыто.
Все население Анваля столпилось на улице у дверей конторы, взволнованно ожидая выхода новых предпринимателей. Все им почтительно кланялись. Когда Ориоли собрались уже повернуть к себе домой, Андермат сказал им:
– Не забудьте, мы сегодня обедаем все вместе в отеле. И обязательно приведите с собой своих девчурок. Я привез им из Парижа маленькие подарки.
Решено было встретиться в семь часов вечера в гостиной «Сплендид-отеля».
Банкир устроил парадный обед, на который были приглашены самые именитые из курортных гостей и местные власти. Христиана сидела на почетном месте, по правую руку от нее посадили приходского священника, по левую – мэра.
Говорили за обедом только о новом курорте и блестящем будущем Анваля. Сестры Ориоль нашли у себя под салфетками по футляру с браслетом, осыпанным жемчугом и изумрудами; обе были в восторге от подарков, оживились и превесело болтали с Гонтраном, которого посадили между ними; даже старшая сестра от души смеялась его шуткам; молодой парижанин, воодушевившись, всячески развлекал их, а про себя производил им оценку, вынося о них то дерзкое тайное суждение, которое чувство и чувственность подсказывают мужчине близ каждой привлекательной женщины.

Поль ничего не ел, ничего не говорил… Ему казалось, что этот вечер – конец его жизни. И вдруг ему вспомнилось, как ровно месяц тому назад они ездили на Тазенатское озеро. Сердце его щемила тоска, скорее от предчувствия, чем от совершившегося несчастья, – тоска, знакомая только влюбленным, когда на душе так тяжело, нервы так напряжены, что вздрагиваешь от малейшего шума, когда одолевают горькие мысли и каждое слово, которое слышишь, как будто полно зловещего значения, связано с этими неотвязными мыслями.
Лишь только встали из-за стола, он подошел в гостиной к Христиане.
– Нам надо встретиться сегодня вечером, сейчас же, – сказал он. – Бог знает, когда еще удастся нам побыть вдвоем. Знаете, ведь сегодня ровно месяц, как…
Она ответила:
– Знаю.
– Слушайте. Я буду ждать вас на дороге в Ла-Рош-Прадьер, не доходя деревни, возле каштанов. Сейчас никто не заметит, что вас нет. Приходите на минутку, проститься, ведь завтра мы расстаемся.
Она прошептала:
– Через четверть часа.
И он ушел: ему нестерпимо было оставаться среди всех этих людей.
Он прошел через виноградники той самой тропинкой, по которой они поднимались, когда впервые ходили полюбоваться равниной Лимани. Вскоре он вышел на большую дорогу. Он был один, чувствовал себя одиноким, совсем одиноким на свете. Огромная, невидимая во мраке равнина еще усиливала это чувство одиночества. Он остановился на том месте, где читал ей стихи Бодлера о красоте. Как уже далек этот день! И час за часом Поль вспомнил все, что случилось с того дня. Никогда еще он не был так счастлив, никогда! Никогда не любил с такой безумной страстью и вместе с тем такой чистой, благоговейной любовью! И в памяти его встал вечер на Тазенатском озере – ровно месяц прошел с тех пор; ему вспомнилось все: лесная прохлада, поляна, залитая мягким лунным светом, серебряный круг озера и большие рыбы, тревожившие рябью его поверхность; вспомнилось возвращение: он видел, как она идет впереди него то в голубоватом сиянии, то в темноте, и капельки лунного света дождем падают сквозь листву на ее волосы, плечи, руки. Какие это были прекрасные минуты, самые прекрасные в его жизни!
Он обернулся посмотреть, не идет ли она, но не увидел ее. На горизонте поднималась луна; та самая луна, которая поднималась в небе в час первого признания, светила теперь – в час первой разлуки.
Озноб пробежал у него по всему телу. Близилась осень – предвестница зимы. До сих пор он не замечал ее первых ледяных прикосновений, а теперь холод пронизал его насквозь, как мрачная угроза.
Пыльная белая дорога извивалась перед ним, словно река. На повороте вдруг выросла человеческая фигура. Он сразу узнал ее, но не двигался, ждал, весь трепеща от блаженного сознания, что она приближается, идет к нему, идет ради него.
Она шла мелкими шажками, не смея его окликнуть и беспокоясь оттого, что все еще не видит его, – он стоял под деревом; шла, взволнованная глубокой тишиной, светлой пустыней земли и неба, и перед нею двигалась ее тень, непомерно большая тень, которая вытянулась далеко впереди, как будто торопилась скорее принести ему какую-то частицу ее существа.
Христиана остановилась, и тень ее неподвижно легла на дороге.
Поль быстро сделал несколько шагов до того места, где на дороге вырисовывалась тень головы. И, словно боясь потерять хоть что-нибудь, исходящее от нее, он стал на колени и, нагнувшись, прильнул губами к краю темного силуэта. Как собака, томясь жаждой, подползает на животе к берегу ручья и пьет из него воду, так жадно целовал он в пыли очертания любимой тени. Он передвигался на коленях и на руках и все целовал, целовал контуры тени, как будто впивал в себя смутный дорогой ему образ, простертый на земле.
Удивленная, немного испуганная, она ждала, не решаясь заговорить с ним, и, только когда он подполз к ее ногам и, обхватив ее обеими руками, поднял к ней голову, она спросила:
– Что с тобой сегодня?
Он ответил:
– Лиана, я теряю тебя!
Она перебирала пальцами густые волосы своего друга и, запрокинув ему голову, поцеловала его в глаза.
– Почему теряешь? – спросила она, доверчиво улыбаясь ему.
– Завтра мы расстанемся.
– Расстанемся? Ненадолго, милый, совсем ненадолго.
– Кто знает! Не вернутся дни, прожитые здесь.
– Будут другие дни, такие же прекрасные.
Она подняла его, увлекла под дерево, где он ждал ее, усадила рядом с собой, чуть пониже, чтобы гладить и перебирать его волосы, и стала говорить серьезно и спокойно, как женщина рассудительная, твердая и пламенно любящая, которая все уже предусмотрела, чутьем угадала, что надо делать, и решилась на все:
– Слушай меня, милый. В Париже я чувствую себя совершенно свободно. Вильям не обращает на меня никакого внимания. Ему важны только его дела, а меня он и не замечает. Ты не женат, значит, я могу приходить к тебе. Я буду приходить каждый день, каждый день в разное время: то утром, то днем, то вечером – ведь прислуга начнет сплетничать, если я буду уходить из дому в одни и те же часы. Мы можем встречаться так же часто, как здесь, и даже чаще, – не надо будет бояться любопытных.
Но он повторял, крепко обнимая ее за талию и положив голову ей на колени:
– Лиана! Лиана! Я потеряю тебя! Я чувствую, что потеряю тебя!
Она немножко рассердилась на него за эту неразумную, детскую печаль, не вязавшуюся с его мощным телом; рядом с ним она, такая хрупкая, была полна уверенности в себе, уверенности, что никто и ничто не может их разлучить.
Он зашептал:
– Лиана, согласись, бежим вместе, уедем далеко-далеко, в прекрасную страну, полную цветов, и будем там любить друг друга. Скажи только слово, и мы сегодня же вечером уедем. Ты согласна?
Но она досадливо пожала плечами, недовольная, что он не слушает ее. Разве можно в такую минуту предаваться мечтаниям и ребяческим нежностям? Сейчас надо проявить волю и благоразумие, придумать средство, чтоб можно было всегда любить друг друга и не вызывать подозрений.
Она сказала:
– Послушай меня, милый. Нам надо все обдумать и договориться, чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности или ошибки. Во-первых, скажи: ты уверен в своих слугах? Больше всего надо бояться доноса, анонимного письма моему мужу. Сам он ни за что не догадается. Я хорошо знаю Вильяма…
Но это имя, которое она произнесла уже два раза, вдруг болезненно задело Поля. Он сказал с раздражением:
– Ах, не говори о нем сегодня!
Она удивилась:
– Почему? Ведь надо же… О, уверяю тебя, он совсем не дорожит мною!
Она угадала его мысли. Смутная, еще безотчетная ревность проснулась в нем. И вдруг, став на колени, он сказал, сжимая ее руки:
– Слушай, Лиана!..
И умолк, не решаясь высказать свое беспокойство, возникшее вдруг постыдное подозрение, не находя слов, как выразить его.
– Слушай, Лиана… Как у тебя с ним?…
Она не поняла:
– Что «как»?… Очень хорошо…
– Да, да… Я знаю… Но послушай… пойми меня хорошенько… Ведь он твой муж… словом… Ах, если б ты знала, сколько я думал об этом последние дни! Как это меня мучает!.. Как это терзает меня!.. Ты поняла?. Да?
Она на миг задумалась и вдруг, поняв его вопрос, вскрикнула с искренним негодованием:
– Ах, как ты можешь?… Милый, как ты мог подумать?… Зачем ты так!.. Я же вся твоя, слышишь?… Только твоя… Ведь я люблю тебя, Поль…
Он снова уронил голову ей на колени и тихо сказал:
– Лиана, маленькая моя!.. Но ведь он твой муж… Муж… Как же ты будешь? Ты подумала об этом?… Скажи… Как будет сегодня вечером или завтра? Ты же не можешь… всегда, всегда говорить ему «нет»…
Она прошептала еле слышно:
– Я его уверила, что я беременна… и он успокоился. Ему это не очень важно… право… Не будем говорить об этом, милый, не надо. Если бы ты знал, как мне это обидно, как горько! Верь мне, ведь я люблю тебя…
Он больше не двигался, молча целовал ее платье, вдыхая аромат ее духов, а она тихо гладила его лицо своими легкими, нежными пальцами.
Вдруг она сказала:
– Пора. Надо идти, а то могут заметить, что нас обоих нет.
Они простились, крепко, до боли сжав друг друга в долгом объятии, и она ушла первая, почти побежала, чтобы вернуться поскорее. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла, смотрел с такой печалью, как будто все его счастье, все надежды исчезли вместе с нею.
Назад: ГЛАВА III
Дальше: Часть вторая

