Книга: Дао дэ Цзин. Книга пути и благодати (сборник)
Назад: Обозрение сокровенного
Дальше: Искусство владычествовать
О духе
Еще не было ни неба, ни земли, только образы и никаких форм. Темным-темно, черным-черно, смутно, пустынно, велико и безбрежно, обширно и глубоко, неизвестно, где его двери. Были два бога, одновременно рожденные. Они обозначили небо, позаботились о земле. Глубокое – неизвестно, где его предел, пространное – неизвестно, где ему конец. Затем произвели разделение на инь и ян, разъятие на восемь пределов. Твердое и мягкое образовались, и тьма вещей сформировалась. Мутный эфир образовал насекомых, кристально-чистый эфир породил людей. Таким образом, дух – принадлежность неба, а плоть – земли. Дух уходит в свои врата, а плоть возвращается к своему корню. Вот и все, что есть мое существование!
Поэтому мудрец следует Небу, отдается на волю естества, не связывает себя суетой, не поддается людским соблазнам. Небо ему отец, земля ему мать, силы инь-ян – основа, четыре времени года – уток. Небо покойно благодаря чистоте, Земля устойчива благодаря покою. Когда тьма вещей утрачивает эти свойства – она погибает, когда следует им – живет.
Итак, покой и тишина – это то, на чем утверждается божественный разум, пустота и ничто – обитель дао. Поэтому доискивающийся вовне теряет внутри себя, бережно хранящий свое внутреннее теряет во внешнем мире. Это все равно как корень и макушка: потяни за корень, и тысячи ветвей, мириады листьев последуют как один. Итак, разум получен от неба, а плоть дарована землей. Поэтому и говорится: «Одно рождает два, два рождает три, а три рождает тьму вещей. Тьма вещей несет на себе инь и обнимает ян, столкновением [противоположного] эфира образуется гармония» . Поэтому и говорится: «В первую луну появляются соки, во вторую луну – припухлость, в третью – плод, в четвертую – мякоть, в пятую – мышцы, в шестую – кости, в седьмую оформление завершается, в восьмую [плод] приходит в движение, в девятую движение сменяется толчками, в десятую происходит рождение». Когда форма и тело завершены, образуются пять органов.
Легкие ведают глазами, почки – носом, желчный пузырь главенствует надо ртом, печень – над ушами. Все, что снаружи, – внешнее, все, что внутри, – внутреннее. Все, что открывается, закрывается, растягивается и сокращается, имеет свою основу и уток. Голова круглая – как небо, ступня прямоугольная – как земля. У неба есть четыре времени года, пять стихий, девять выходов, триста шестьдесят дней. У человека тоже есть четыре конечности, пять внутренних органов, девять отверстий, триста шестьдесят суставов. Природе известны ветер и дождь, холод и жар. Человек тоже способен брать и отдавать, радоваться и гневаться. Желчный пузырь – это облака, легкие – эфир, печень – ветер, почки – дождь, селезенка – гром. А сердце всему господин. Уши и глаза – это солнце и луна, кровь и эфир – ветер и дождь.
В центре солнца живет трехлапый ворон, в центре луны живет жаба. Солнце и луна, будучи пожраны [чудовищем] , теряют свой ход, утрачивают свет. Ветры и дожди, приходя не в свое время, ломают и рушат и порождают бедствия. Когда пять планет утрачивают свой ход, все страны страдают от несчастий. Отсюда следует, что дао неба и земли при всем своем величии как бы экономит свой яркий свет, щадит свой божественный разум. Что уж говорить о человеческих глазах и ушах! Разве способны они трудиться не отдыхая? Разве может разум долго расходоваться и не иссякнуть?
Кровь и эфир – это основа жизни человека, пять органов – это семя жизни. Поэтому если кровь и эфир удерживаются внутри, не переливаясь вовне, то внутреннее оказывается наполненным, а желания и страсти сокращаются. Внутреннее наполнено, желания и страсти сокращены, и тогда глаза и уши прочищаются, а слух и зрение способны далеко простираться. Это называется ясностью (мудростью).
Если пять органов подчинены сердцу и не спорят друг с другом, то многообразные желания оказываются побеждены, а поступки не отклоняются от должного. Когда многообразные желания побеждены, а поступки не отклоняются от должного, то дух наполнен и эфир не рассеивается. Когда же дух наполнен и эфир не рассеивается, то все правильно соотнесено; а если правильно соотнесено, значит, уравновешено; а если уравновешено, то готово к постижению; а если готово к постижению, то человек становится разумен. Разумен, – значит, все, на что смотрит, видит; все, что слушает, слышит; все, что делает, успешно завершает. Поэтому он свободен от печали и страданий, а вредоносный эфир ему не страшен. Бывает, что ищут за пределами четырех морей и не находят; бывает, что хранят внутри и не знают, потому что жаждущий слишком многого в результате получает мало; стремящийся узнать слишком много узнает мало.
Пустоты и углубления – это окна и двери духа, а эфир и воля – это слуги-распорядители пяти органов. Когда глаза и уши безудержно наслаждаются красками и пением, то пять органов приходят в волнение и не могут успокоиться. Когда же пять органов взволнованы и не могут успокоиться, то кровь и эфир в смятении и не могут улечься. Когда кровь и эфир в смятении и не могут улечься, дух устремляется вовне и уже не может охранять внутреннего. Когда дух устремляется вовне и не в состоянии охранять внутреннее, то приходят счастье и несчастья. Будь велик, как гора, не постичь этого!
Пусть глаза и уши будут кристально-чисты и простираются до глубин таинственного, не поддаваясь соблазнам; пусть эфир и воля будут безмолвны и покойны, а желания умеренны; пусть пять органов сохраняют устойчивость и полноту и ничто не просачивается наружу; пусть разум хранит тело и не изливается вовне – тогда даже те, кто провидят в глубь прошлых веков и в даль будущих, не сравнятся с тобой! Кто же не способен на это, осужден болтаться между счастьем и несчастьем. Поэтому и говорится: «Чем дальше едешь, тем меньше знаешь». Другими словами, нельзя допускать, чтобы разум истекал вовне.
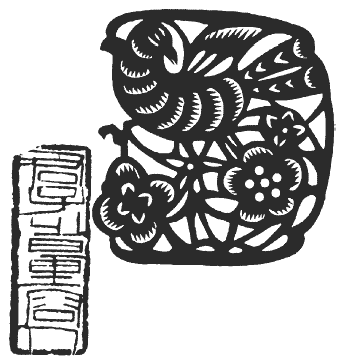
Поскольку пять красок волнуют взор, пусть глаза не смотрят; пять звуков притупляют слух, пусть уши не внемлют; пять вкусов волнуют уста, пусть уста утратят вкус; поскольку принятие решения волнует сердце, пусть поступки станут легкими, как ветер. Из этих четырех вещей исходят в Поднебесной при воспитании своей природы. Однако они же являются путами для людей.
Поэтому и говорят, что страсти заставляют эфир переливаться через край, а пристрастия изнуряют сердце. Если не изгнать их, то эфир и воля будут с каждым днем истощаться. Люди потому не могут исчерпать до конца свой жизненный срок, а погибают на полпути от казни, что они слишком щедро живут. Только тот способен долго жить, кто может обходиться без даров жизни.
Так, Небо и Земля, вращаясь, образуют единство, тьма вещей в совокупности составляет одно. Кто познал одно, тот знает все; кто не способен познать одно, тот не знает ничего. Например, я ведь тоже – вещь Поднебесной. Не знаю, создан ли я для полноты Поднебесной, или, не будь меня, ее целостность не пострадала бы? Если даже так, я – вещь, и вещь – тоже вещь, какой смысл в этих похожих вещах? Оно рождает меня – для какой пользы? Оно убивает меня – какой от этого убыток?
Творящее изменения сделало меня горшком – я не могу не повиноваться. Откуда мне знать, что делающие иглоукалывание и прижигания, желающие сохранить себе жизнь не заблуждаются? Откуда мне знать, что тот, кто ищет смерти, затягивая узел на шее, не обретает счастья? Говорят, жизнь – это рабский труд, а смерть – отдохновение. Поднебесная столь велика, кто может знать это? Творящее изменения породило меня – я не останавливал, оно убивает меня – я не препятствую. Желая жить, я ничего не делаю, чтобы жить, ненавидя смерть, я не отказываюсь от нее. Презирая, я не впадаю в ненависть, ценя, радуюсь. Принимай то, что тебе отпущено Небом, будешь всегда спокоен.
С рождением я обретаю форму в семь чи, а по смерти у меня только клочок земли для гроба. Моя жизнь подобна всем, кто обладает формой, по смерти же я соскальзываю в бесформенное. Если так, то мое рождение не принесло никакой пользы живущим, а моя смерть не сделает землю более плодородной. Да и откуда мне знать, в чем грань между удовольствием и отвращением, пользой и вредом?
Творящее изменения хватает и вытягивает вещь подобно тому, как гончар глину. Берет и делает из нее таз. Этот таз не слишком отличается от глины, из которой сделан. И вот уже готовый сосуд оно вдруг разбивает вдребезги и возвращает к основе. Эти осколки также не слишком отличаются от таза. В деревнях, прилегающих к Реке, жители поднимают воду из колодцев, чтобы поливать свои огороды, – Река не выказывает недовольства. Стоячие грязные воды отводят в Реку – эти воды не испытывают наслаждения, потому что вода, которая была в Реке, не перестала ею быть и на огороде, а та, которая была в сточной канаве, не перестала ею быть и в Реке.
Мудрец находит себе удобное место, сообразуясь со временем; находит себе дело в радость, сообразуясь с поколением. Скорбь и наслаждение – это зло для блага, радость и гнев – это вред для дао; любовь и ненависть – это ущерб для сердца. Поэтому и говорится о мудреце: «Его жизнь – это шествие Неба, его смерть – это превращение вещи». В покое с инь закрывается, в движении с ян открывается. Если разум безмятежно спокоен, не рассеивается на вещи, то Поднебесная сама собой подчинится. Итак, сердце – господин формы, а разум – сокровище сердца. Тело без устали трудится и потому истощается, цзин безостановочно расходуются и потому иссякают. Зная это, мудрец не отваживается переходить здесь меру. Так, сяский нефрит хранился в шкатулке как самая большая драгоценность. Разум же представляет собой еще большее сокровище, чем сяский нефрит.
Поэтому мудрец, опираясь на небытие, откликается бытию и непременно постигает закон всеобщей упорядоченности и соответствия; опираясь на пустоту, принимает сущее и непременно постигает все сопряжения. В блаженной радости, тишине и покое живет отведенный ему срок. Поэтому «нет для него ни чужих, ни родных, обнимает благо, хранит гармонию и послушно следует небу» . Граничит с дао, соседствует с благом, не предваряя счастья, не накликая беды. Его небесная душа и его земная душа покоятся на месте, а разум хранит свой корень. Жизнь и смерть не производят в нем изменений. Поэтому о нем говорится: «Высший разум».
Естественный человек свою природу приводит в соответствие с дао. Поэтому то ли есть, то ли нет, то ли полон, то ли пуст. Стоит на одном и не знает, что такое два, бережет внутреннее и не заботится о внешнем.
Светлый и чистый, в высшей простоте и недеянии возвращается к первозданной безыскусственности. Воплотив корень, обняв разум, странствует меж небом и землей. Свободный, плывет за пределами пыльного мира, бродит в краю, где не занимаются делами. Необъятный, обширный, сердце его не обременено ухищрениями искусства. Поэтому жизнь и смерть для него одинаково велики и не производят в нем изменений. Хотя небо покрывает, а земля поддерживает, он не зависит от них; он проникает в не имеющее щели и не смешивается с вещами; наблюдая хаос дел, способен не упускать их корень.
Подобные ему смиряют свои желчь и печень, отказываются от свидетельств глаз и ушей, концентрируют волю и мысли внутри, далеко проникают, объединяясь в одно с Единым. Находясь в покое, не знают, чем заняться; идя, не знают куда. Отправляются, как в тумане, приходят, смутно сознавая зачем. Форма такого подобна сухому дереву, сердце подобно угасшему пеплу. Забывает о пяти органах, пренебрегает плотью. Не учится, а знает, не смотрит, а видит, не действует, а свершает, не управляет, а все упорядочено. Ощущая – откликается, вынужденный – движется, побуждаемый – идет, подобно отсвету, подобно тени. Ведомый дао, встречает вещи и естественно на них отвечает. Обнимает корень Великой чистоты и ничем не обременен, вещи его не тревожат. Невидимый, неслышимый, он пуст. Чистый и спокойный, он свободен от дум. Огонь горящих болот его не обжигает, сковывающий реки мороз не обмораживает; громовой раскат, сокрушающий горы, его не пугает; ураган, затмевающий солнце, ему не вредит. Драгоценные сокровища, жемчуг и нефрит для него все равно что мелкая галька; высокий вельможа, властный фаворит для него все равно что заезжий гость; Мао Цян и Си Ши он не отличит от огородного пугала. Жизнь и смерть для него лишь превращение, а тьма вещей – как один род. Объединяет свои цзин с корнем Великой чистоты и странствует за пределами бесформенного. Свои цзин не посылает, свой ум не трудит. Объединяется с безыскусственностью Великого хаоса и устанавливается в центре Совершенной чистоты.
Поэтому он спит без сновидений, его ум молчит, его земная душа не тянет вниз, его небесная душа не рвется вверх. Бродит между началом и концом, не заботясь об их границах. Сладко спит в обители Великой тьмы и пробуждается в Световом пространстве. Отдыхает в краю, где нет границ, и странствует в земле, где нет форм. Поселяется, не занимая объема, помещается, не занимая места. В движении невидим, в покое неощутим. То ли есть, то ли нет, то ли жив, то ли мертв, между тем и другим нет грани. Он делает своими рабами демонов и духов, проскальзывает в неизмеримо глубокое, проходит в не имеющее промежутка и вместе с разнообразными формами вращается, кружится. Конец и начало подобны кольцу – не постичь их круговорота. Вот почему разум способен восходить к самому дао.
Странствие естественного человека подобно вдоху и выдоху – выдыхает старое, вдыхает новое. Ничто не способно взволновать сердце человека, воспитавшего свою форму: ни раскачивающийся на ветвях медведь, ни вытянувшая голову птица, ни плескающиеся в воде дикие утки, ни скачущие обезьяны, ни глаза совы, ни повернувший голову тигр. Пусть дух его высоко вздымается, он при этом не теряет полноты. Ни день, ни ночь не приносят ему ущерба, он со всем сущим сливается в одно. А когда достигнуто это единство, в сердце родится чуткость к времени. Умеющий беречь свою форму не терпит ущерба и в сердце: есть жилище, и цзин не утекают. Но ведь прокаженный не сбивается с дороги, а форма помешавшегося не имеет изъяна – но кому досуг задумываться над тем, как может дух при этом далеко переселяться?
Форма изнашивается, а дух не подвержен изменениям, потому что, опираясь на неизменяющееся, откликается изменяющемуся. Происходит тысяча превращений, тьма перемен, и нет им конца. Изменяющееся вновь возвращается в бесформенное, неизменяющееся же рождено вместе с небом и землей.
Когда дерево умирает, зелень оставляет его. Разве то, что заставляет дерево жить, дерево же? А наполняющее форму ведь не форма же? Вот почему то, что порождает жизнь, никогда не умирает, а умирает только то, что им порождено; то, что изменяет вещи, само не изменяется, а изменяется лишь то, что им преобразовано. Презри Поднебесную, и с духа спадут оковы; пренебреги вещами, и сердце освободится от сомнений; уравняй жизнь и смерть, и воля обретет бесстрашие; уподобишься ходу изменений и превращений, и взор твой обретет ясность.

То, что для массы людей есть только пустые слова, я намерен разложить по родам и пристально рассмотреть.
Наслаждение быть владыкой происходит от возможности полного удовлетворения желаний глаз и ушей, удовольствий тела и плоти. Ныне считаются красивыми высокие башни и многоярусные беседки, а при Яо были простые нетесаные балки, невыделанные карнизы; считаются прекрасными драгоценные диковинки, невиданные редкости, а при Яо ели простой рис и просо да похлебку из ботвы; считаются приятными узорчатая парча и белый лисий мех, но Яо прикрывал тело холщовой одеждой, спасался от холода оленьей шкурой. Предметы, необходимые для жизни, не надо умножать, с прибавлением их удваиваются печали. Поэтому [Яо] передал Поднебесную Шуню так, как будто освободился от тяжелой ноши, и не просто на словах – поистине ему с ней нечего было делать. Это вот и есть средство презреть Поднебесную. Юй, объезжая [Поднебесную] и будучи на юге, переправлялся через Реку. Желтый дракон поднял его лодку на спину, люди в лодке перепугались так, что то краснели, то бледнели. Тогда Юй весело сказал: «Небо дало мне жизнь. Я истощил силы, служа народу. Жизнь – обуза, а смерть – возвращение. Стоит ли напрасно возмущать свой покой?» Юй посмотрел на дракона, словно на какую-нибудь ящерицу, и даже не изменился в лице, а дракон прижал уши, вильнул хвостом и исчез. Юй конечно же умел презирать вещи. Чжэнская шаманка гадала Ху-цзы Линю по лицу. Результат сказала Ле-цзы, и тот, плача, отправился к Ху-цзы поведать о беде. А Ху-цзы жил, опираясь на свою небесную и земную природу, отношения имени и сущности его не занимали, ибо пружина жизни запускается не снаружи, а внутри. Он смотрел на жизнь и на смерть как на равные вещи. Цзы Цю было пятьдесят четыре года, когда у него вырос горб. Позвоночник вздыбился над макушкой, подбородок упирался в проваленную грудь, бедра торчали вверх; фаллос, приходя в волнение, упирался в небо. Он подполз на четвереньках к колодцу и воскликнул: «Великолепно! Творящее изменения сделало меня таким пригожим!» Для него все изменения и превращения были равны.
Поэтому, взирая на путь Яо, понимаешь ничтожество Поднебесной; видя волю Юя, понимаешь ее незначительность; вникая в рассуждения Ху-цзы, познаешь равенство жизни и смерти; видя Цзы Цю, убеждаешься в равенстве всех изменений. Поэтому совершенный человек стоит, опираясь на неколебимую колонну, идет по нескончаемой дороге, пользуется неиссякаемой казной, учится у бессмертного учителя. Куда бы ни направлялся, все пройдет; во что бы ни уперся, все преодолеет. Жизнь считает недостойной того, чтобы тревожить свою волю, смерть – чтобы омрачать свой дух. Вытягивается и сокращается, поднимается и опускается покорный судьбе, послушно следует ее поворотам. Беда и счастье, польза и вред, тысячи изменений, тьма превращений – разве достойно что-нибудь из них страданий сердца?!
Такой хранит изначальную простоту, бережет кристальную чистоту. Как кузнечик сбрасывает свой покров, как змея меняет кожу, странствует в Высшей чистоте, взмывает ввысь и остается один, забывшись, вступает в тьму. Если даже фениксы не могут поспеть за ним, то что уж говорить о перепелках! Власть, положение, титул, жалованье – разве способны они возбудить его волю? Янь-цзы во время присяги Цуй Чу под угрозой смерти не изменил долгу. Чжи и Хуа шли в смертельный бой, а правитель Цзюя не смог их остановить щедрой взяткой. На Яньцзы можно было воздействовать милосердием, но нельзя было принудить силой. Чжи и Хуа могли остановиться из-за долга, но их нельзя было прельстить выгодой. Если долг велит благородному мужу умереть, его не остановить ни богатством, ни знатностью; если долг повелевает действовать, то его не запугать угрозой смерти. Если уж ради исполнения долга остаются непреклонными, то тем более непреклонны те, кто вообще не связан вещами, и еще более те, кто пребывает в недеянии!
Яо не дорожил Поднебесной, поэтому и передал ее Шуню; царевич Чжа не слишком высоко ставил обладание царством, поэтому и уступил престол; Цзы Хань не считал нефрит богатством, поэтому и не принял сокровища; У Гуан не захотел сохранить жизнь, поступившись долгом, потому и бросился в пучину. С этой точки зрения высшее благородство не зависит от пожалований, высшее богатство не зависит от имущества: нет ничего более Поднебесной, однако была отдана другому; нет ничего роднее тела, однако было брошено в пучину. За вычетом сказанного ничто не достойно того, чтобы его домогаться. Таких называют освободившимися от пут. Освободившиеся от пут не дорожат Поднебесной. Если вникнуть в доводы совершенного человека, вдуматься в суть изначальных дао и блага, а затем обратиться к поступкам пошлой толпы, то поистине становится стыдно! По сравнению с поступком Сюй Ю что стоят «Золотая перевязь» и «Леопардовый колчан» ! Яньлинский Цзи-цзы не принял царства У, и тяжущиеся из-за свободных земельустыдились. Цзы Хань не прельстился драгоценным нефритом, и спорящие из-за долговых обязательств были пристыжены. У Гуан не захотел пачкаться грязью современного мира, и алчные и трусы задумались. Поистине, не встретившись с людьми высокой чести, не знали бы, что жизнь недостойна того, чтобы ее жадно домогаться; не услышав великих речей, не знали бы, что Поднебесная не представляет достаточной выгоды.
Так, собравшиеся у бедного деревенского алтаря бьют в тазы, хлопают по стенкам кувшинов, вторя друг другу, поют – и считают это радостью. А когда бы они попробовали ударить в барабан цзяньгу, зазвонить в великий колокол, то сердце их содрогнулось бы и они устыдились бы своих тазов и кувшинов. Те, кто бережно хранит Песни и Предания, совершенствует свое знание канонов, но не проник в смысл совершенных речений, подобны бьющим в тазы и хлопающим по стенкам кувшинов; а те, кто старается ради Поднебесной, подражают бьющим в барабан цзяньгу. Почет и власть, преуспеяние и выгода – это для всех предмет вожделений, но дай им в левую руку Поднебесную, а правой пусть перережут себе горло, ведь и глупец не согласится. Значит, жизнь дороже Поднебесной?!
Мудрец ест столько, сколько нужно для поддержания дыхания; одевается так, чтобы прикрыть тело; удовлетворяет естественные потребности, не нуждаясь в лишнем. Нет Поднебесной – это не нанесет ущерба его природе, есть Поднебесная – это не нарушит его гармонии. Есть Поднебесная, нет ли – ему все едино. Пожалуй ему хоть житницы Аоцан, отдай большие и малые реки – он проголодается и поест, почувствует жажду и напьется. То, что вошло в его чрево, не больше плетенки каши да ковша воды, а он сыт, запасы же Аоцана не уменьшились; он утолил жажду, воды же больших и малых рек не оскудели. Есть они – он не станет более сыт, нет их – он не будет голоден, они для него все равно что амбар для зерна, что колодец во дворе.
Великий гнев уничтожает инь, великая радость наносит урон ян, великая печаль разрушает внутреннее, великий страх порождает безумие. Чем отстраняться от грязи, отбрасывать путы, не лучше ли никогда не покидать своего корня и пребывать в великом единстве? Зрение ясно, но он не смотрит, слух чист, но он не слушает, уста сомкнуты и не говорят, сердце сосредоточено, но нет в нем дум. Он отбрасывает свидетельства и слуха и зрения и возвращается к Высшей простоте, отпускает на свободу свой разум и гонит прочь уловки знания. Бодрствует, словно дремлет, жизнь уподобляет смерти. Умирая, возвращается к корню, еще не родившись, составляет одно с изменениями. Смерть и жизнь для него едины. Ныне отбывающие трудовые повинности с заступами и кирками в руках, с корзинами земли за плечами обливаются соленым потом, задыхаются от усилий. А в те времена люди, лежа под тенистым деревом, радовались, свободно дыша. А внутри горной пещеры отдых еще приятней! Ныне страдающие от заворота кишок хватаются за сердце, мнут живот, стоя на коленях, бьются головой об пол, корчатся от боли и громко плачут, не в состоянии заснуть ночь напролет. А в те времена родные и братья, довольные, были веселы и, едва зевнув, засыпали. А покой длинной ночи ведь еще приятнее зевка! Поэтому тот, кто познал величие космоса, равнодушен к жизни и смерти; кто познал радость воспитания жизни, не привязан к Поднебесной; кто познал наслаждение жизни до рождения, не боится смерти; кто осознал преимущества Сюй Ю перед Шунем, тому не нужны вещи. Обвал стены лучше, чем ее водружение, – а еще лучше ее не строить; таяние льда лучше, чем его образование, – а еще лучше, если бы его и не было.
Из небытия вступаем в бытие, из бытия – в небытие. Конец и начало не имеют грани, неизвестно, что их порождает. Не постигнув, что есть внешнее, что – внутреннее, как достичь бесстрастия? Внешнее, не имеющее за собой внешнего, – это совершенное величие; внутреннее, не имеющее ничего внутри себя, – это высшая ценность. Способный познать высшее величие и высшую ценность куда бы ни пошел, ему нет препятствий.
А [наш] слабый век пристрастился к учению, забыл свое изначальное сердце, покинул корень. Только и знают, что гравировать и шлифовать свою природу, ломать и насиловать свое естество в угоду современникам. Поэтому глазами хоть и желают – пресекают установлениями, сердцем хоть и стремятся к наслаждению – сдерживают себя ритуалом; суетятся и кружатся, преклоняют колени и униженно кланяются. Мясо остыло – не едят, вино с осадком – не пьют. Связали свое тело, стиснули благо, сдавили гармонию инь и ян, поработили естество. Потому всю жизнь остаются страдальцами.
Достигший высшего дао не таков. Он приводит в порядок свои естественные чувства и свою природу, упорядочивает мысли, растит в себе гармонию, ценит соответствие. Он находит наслаждение в дао и забывает о худородстве, обретает покой в благе и забывает о бедности. В его природе не желать, но нет такого желания, которого бы не осуществил; в его сердце не живет наслаждение, но нет такого наслаждения, которого бы он не мог испытать. Не обременяющий своего естества не накладывает пут и на благо; умеющий найти соответствующее своей природе не повредит и своей гармонии. Поэтому отпусти на волю свое тело, дай свободу своим мыслям – и станешь для Поднебесной образцом умеренности и обуздания себя.

Ныне же конфуцианцы не вскрывают корень желаний, а запрещают само желаемое, не ищут истока наслаждений, а пресекают сам предмет наслаждения. Это все равно что пытаться рукой заткнуть источник, питающий большие и малые реки. Пастырь народа подобен хозяину зверинца. Он хочет, чтобы звери прожили как можно дольше, а при этом запирает их в загоны и возбуждает в них злость, стреноживает их и лишает движения. Разве таким способом достичь желаемого? Так, Янь Хуэй, Цзы-лу, Цзы-ся, Жань Боню – самые способные ученики Кун-цзы. Однако Янь Юань рано умер, Цзы-лу засолили в Вэй, Цзы-ся потерял зрение, Жань Боню заболел [и умер]. Все они принуждали свою природу, пренебрегали естеством, но не обрели покоя. Некогда Цзэн-цзы, встретясь с Цзы Ся, удивился, почему тот то худел, то толстел. На вопрос Цзэн-цзы о причине тот ответил: «Вначале я познал наслаждение, которое дают знатность и богатство, и возжелал их. Затем узнал радость приобщения к пути прежних царей и возликовал. Эти две вещи боролись в моем сердце, потому и отощал. Путь прежних царей победил – потому и растолстел».
Принуждают себя не жаждать богатства и знатности, не получать удовольствия от роскоши и изобилия; принуждают свою природу, сдерживают желания, напоминая себе о долге. При этом, хотя естественные чувства зажаты и задавлены, тело и природа изломаны и истощены, все-таки как будто поневоле насилуют себя – потому и не доживают до конца дней своих.
А совершенный человек ест, соразмеряясь с желудком, одевается, соразмеряясь с формой, странствует, покоряясь телу, поступает, сообразуясь с естеством. Он отстраняет Поднебесную – она ему не нужна, отвергает тьму вещей, не видя в ней пользы. Он живет в широчайшем пространстве, странствует в беспредельных краях, восходит к высшим небесам, попирает Великое Единое, Вселенную перекатывает, как шарик на ладони. Что для него значат бедность и богатство, станет он толстеть или худеть из-за них?!
Конфуцианцы не могут заставить людей не желать, а могут только заставить воздерживаться, не могут заставить людей не наслаждаться, а могут только пресечь наслаждение. Принудить Поднебесную бояться наказания и не сметь разбойничать разве значит заставить не иметь разбойничьих замыслов?
Юэсцы ловят удавов и едят их как большое лакомство, а в Срединных землях их считают бесполезными. Следовательно, и жадный способен отказаться, если понимает бесполезность вещи; если же не понимает этого, то и нежадный не уступит. Та к владыки царств теряли свои царства и жертвовали алтарями, умирали от руки врага и делались посмешищем Поднебесной – всегда из-за чрезмерных желаний! Государь Цюю, польстившись на взятку – большой колокол, потерял царство; юйский правитель дал поймать себя, прельстившись нефритом из Чуй-цзи. Сянь-гун, покоренный красотой Цзи из Ли, породил смуту в четырех поколениях; Хуань-гун насладился яством, приготовленным И Я, а в результате не был вовремя похоронен; хуский царь, увлекшись красотой танцовщиц, потерял свои лучшие земли. Если бы эти пять государей сообразовывались с естеством, отказывались от лишнего, довольствовались для себя необходимым и не шли на поводу у вещей, разве их постигло бы такое несчастье?
Обычный стрелок без стрелы не попадет в цель, а овладевший истинным искусством стрельбы и не заботится о стреле. Обычный возничий без вожжей не отправится в путь, а истинно овладевший искусством управления колесницей не пользуется вожжами. Понимающий бесполезность зимой опахала, а летом – мехового халата смотрит на все превращения тьмы вещей, как на пыль.
Подливая кипяток в кипящую воду, кипения, конечно, не остановить. Истинно понимающий корень дела убирает огонь, и все.

Назад: Обозрение сокровенного
Дальше: Искусство владычествовать

