Книга: Иноземцы на русской службе. Военные, дипломаты, архитекторы, лекари, актеры, авантюристы…
Назад: 5. Иноземные школы
Дальше: 7. Шотландские карьеры
6. Театральный дебют в Москве
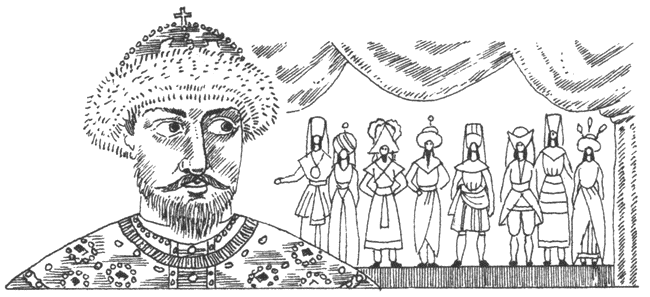
Влияние европейской культуры, хоть и с большим трудом, но все же распространявшейся в Московии вопреки всяческим запретительным мерам, сказалось тем, что в русской столице появились сразу два театра — один уже упоминавшийся театр при школе пастора Грегори, а второй в самой Москве, в доме Артамона Сергеевича Матвеева, сделавшего поразительную карьеру при царском дворе.
Отец Артамона Сергеевича не мог похвастаться знатным происхождением, однако своими способностями достиг видного положения, став дьяком Посольского приказа, что в переводе на современные реалии равняется начальнику одного из департаментов министерства иностранных дел.
Заслуги отца во многом и определили дальнейшую судьбу сына, родившегося в 1625 году: Матвеев-старший, будучи послан ко двору турецкого султана Мехмеда IV, а потом к персидскому шаху Аббасу II, так исполнил порученные ему дела, что в награду велено было тринадцатилетнего сына его «взять на житье в Москву, в числе детей боярских», хотя Матвеевы боярами не были.
У царевича Алексея, в дружки которого и набирали ребятишек, в наставниках был боярин Борис Иванович Морозов. Царевич был четырьмя годами младше Артамона, но в учении, возможно, его опережал — Алексея Михайловича с пяти лет учили чтению по букварю, в семь лет он взял в руки перо, в девять стал учиться пению и музыке. Его обучали языкам и географии, а книги, карты и картинки для того доставлялись из разных стран. Лучшие игрушки тогда изготовляли в Нюрнберге, и оттуда русскому царевичу везли лошадок, детские латы, музыкальные инструменты и все прочее, чего ему захочется. Кроме боярина Морозова юного царевича наставляли девять служилых дворян, каждый в своем деле дока, — учили верховой езде, обращению с оружием и другим необходимым будущему правителю вещам.
Всю эту школу вместе с царевичем и мальчиками, собранными царевичу для компании, прошел и Артамон Матвеев, сумев так отличиться, что слух о его способностях дошел до самого царя Михаила Федоровича Романова и тот произвел шестнадцатилетнего Артамона в стряпчие — начальный из тогдашних придворных чинов. Когда же его царственный друг вступил на русский престол, Артамон Сергеевич скакнул в стольники и получил воинский чин полковника.
Военному делу Артамон Сергеевич учился в одном из тех рейтарских полков, что формировали приглашенные на русскую службу уже упоминавшиеся Лесли и Бокховены. Он быстро прошел все ступени полковой иерархии и возглавил набранный им же один из новых русских рейтарских полков. Командуя рейтарами и побывав во множестве боев, Матвеев показал себя смелым и искусным воеводой.
А далее как-то так вышло, что, почти не растя в чинах и званиях, Артамон Сергеевич тем не менее получил в свое ведение Малороссийский приказ, один из важнейших в государстве, и занял чрезвычайно важное положение.
Этого человека можно без всякого преувеличения назвать «новым русским человеком своего века». Имея возможность породниться с самыми знатными фамилиями, Артамон Сергеевич предпочел жениться на Авдотье Григорьевне Гамильтон, дочери шотландского дворянина, поступившего на русскую службу в начале XVII века. Способный к восприятию всего нового, Матвеев относился к партии убежденных «западников», но это «западничество» весьма отличалось от того, которое появилось в более поздние времена. Следовать «европейским веяниям», живя в Москве, любому русскому было небезопасно — чуть увлечешься, и того гляди обрушится на тебя кара. Но Артамон Сергеевич Матвеев умел соблюдать правильный баланс во всем.
Дом свой он содержал на европейский лад: собрал прекрасную библиотеку, стены украсил картинами европейских художников, комнаты уставил мебелью, доставленной из-за границы или сделанной на заказ в Немецкой слободе. Первым из русских вельмож завел домашний оркестр и театр, составленные из его собственных дворовых людей, с которыми занимались специально выписанные из немецких земель музыканты и знатоки актерской игры. В гостях у Артамона Сергеевича любил бывать сам царь, который особенно часто стал ездить к Матвееву после того, как похоронил в 1669 году свою супругу, Марию Ильиничну Милославскую, с которой прожил 21 год. В доме у своего старшего товарища в приватной обстановке, лишенной дворцовой церемонности, Алексей Михайлович находил отдых от государственных дел.
Гостей Матвеевы принимали на европейский манер, женщин в отдельном тереме не прятали, и однажды царю, приехавшему скоротать вечерок, Артамон Сергеевич представил свою дальнюю родственницу, девицу Наталью Кирилловну Нарышкину. Впрочем, родственная связь между ними относилась скорее к разряду «седьмая вода на киселе»: родной брат отца Натальи, Федор Полиектович Нарышкин, был женат на Евдокии Петровне Хомутовой, приходившейся племянницей супруге Матвеева, Авдотье Григорьевне Гамильтон. Федор и Кирилл Нарышкины происходили из тарусских служилых дворян и в молодости были офицерами в рейтарском полку, которым командовал Матвеев.
Девушке уже пора было замуж, но в семье, помимо Натальи, было несколько сыновей, которых отец должен был снарядить на службу и наделить имуществом, а потому рассчитывать на большое приданое невесте не приходилось. Найти же достойного жениха, согласного на то приданое, которое за ней могли дать, оказалось не так-то просто, и оттого Наташа Нарышкина несколько «засиделась в девицах». Обычно в те времена родители своих дочерей выдавали замуж между четырнадцатью и семнадцатью годами, а Наталье шел уже двадцатый. В семействе могущественного московского вельможи она оказалась благодаря Авдотье Григорьевне, уговорившей супруга принять в дом ее дальнюю родственницу.
Не известно в точности, какие именно были у Артамона Сергеевича планы в отношении Натальи Нарышкиной, но прежде всего он озаботился устройством достойного брака для нее. Именно это он имел в виду, когда, представив ее Алексею Михайловичу, просил для нее у своего царственного друга покровительства. Государь обещал подумать, что может сделать для девицы, и через несколько дней, снова приехав в дом Матвеева, сообщил ему, что не придумал ничего лучше, как самому жениться на его воспитаннице. 22 января 1671 года Алексей Михайлович венчался с Натальей Кирилловной, которая была на полтора года младше его старшей дочери от первого брака и почти ровесницей второй по старшинству царевне.
Новая царица вполне оправдала надежды супруга и подданных, 30 мая 1672 года родив крепкого первенца, нареченного при крещении Петром. По столь радостному поводу состоялось большое награждение придворных, и первейший друг царского семейства Артамон Матвеев получил чин окольничего.
Желая распотешить молодую супругу, Алексей Михайлович, зная, как ей нравятся зрелища, которые были приняты в доме ее покровителя, приказал устроить театральные представления, поручив это дело, конечно же, Артамону Сергеевичу — тот был единственным из придворных, понимавшим толк в театре. Однако одно дело маленький домашний театрик и совсем иное — большое представление, даваемое в честь рождения наследника престола, на котором помимо первых лиц государства непременно будут присутствовать иностранные дипломаты, для которых театр не диковинка. На этом поручении запросто можно было споткнуться, погубить карьеру — в случае неудачи это был бы подлинный «срам на всю Европу»: послы непременно отписали бы ко дворам своих владык о провале постановки придворного театра «московитов».
Осторожный и опытный Артамон Сергеевич решил обратиться к специалистам из числа тех, кто был у него под рукой. К счастью, подходящий человек ему был известен, и человеку этому до зарезу нужен был шанс «переменить фортуну» и отличиться в глазах царя. В этом их положение было похоже — для обоих постановка спектакля была игрой по принципу «либо пан, либо пропал».
Изначально Матвеев хотел просто пригласить в Москву какую-нибудь европейскую театральную труппу и для этого думал отправить в Польшу или Прибалтику подходящего человека. Эту миссию поручили старому знакомому и другу пастора Грегори, немецкому офицеру Клаусу фон Штадену, которому лично Артамон Сергеевич Матвеев 15 мая 1672 года передал царский указ: «Ехать тебе к курляндскому герцогу Якову для вербовки нужных людей — искусных в горном деле мастеров, военных музыкантов-трубачей, а еще людей, умеющих представлять разного рода комедийные игры».
По поводу этих последних фон Штадену было приказано: коли таковые в Курляндии не отыщутся, ехать искать их в принадлежавшей шведской короне Лифляндии, а не найдя там, отправиться в Пруссию.
Царскому посланцу посчастливилось — всех нужных мастеров он нашел в Курляндии, в том числе и актеров, застав на гастролях в Риге труппу театрального директора Иоганна Фельтона. С определенной степенью вероятности можно предположить, что эта встреча произошла не случайно — Фельтон был не только руководителем известной театральной труппы, он был большой знаменитостью своего времени, если не общеевропейского, то, уж по крайней мере, германского масштаба.
Уроженец города Галле, Фельтон учился в Лейпциге — городе с известными традициями студенческих театров — и там впервые вышел в 1669 году на сцену в спектакле по пьесе Корнеля «Полиевкт». Тогда же он впервые назвался Фельтоном; его родной брат Валентин Фельтхейн состоял профессором теологии в Йенском университете, и Иоганн предпочел взять псевдоним, чтобы не бросить на него тень несерьезным актерским занятием.
Увлечение театром не прошло, даже когда Фельтон закончил учение со званием магистра. Он собрал труппу, в которой преобладали студенты, и отправился в турне по Северной Германии. Репертуарной основой труппы, состоявшей из четырнадцати природных немцев, были переводы шекспировских пьес и пьес Мольера, которые Фельтон сам перевел с французского. Дополняли репертуар произведения итальянских и испанских драматургов, переведенных и адаптированных для немецкого зрителя им же.
Фельтон сочетал в себе редкий набор качеств — это была бесспорно творческая личность, оказавшая влияние на развитие театрального искусств, но притом маэстро Иоганн проявлял предприимчивость, неутомимую деловитость и редкостную честность. В немалой степени именно его заслуга была в том, что слава о руководимой им труппе гремела повсюду. Дошло до того, что саксонский герцог Иоганн-Георг II в 1670 году предложил Фельтону и его людям выступать при его дворе, положив им по 150 флоринов жалованья, которое позже было увеличено до 200 флоринов.
Подписывая контракт на выступления при саксонском дворе, маэстро оговорил право своего театра выезжать на гастроли. В Дрездене труппа обязана была играть по большим праздникам, а в иное время она отправлялась путешествовать, давая представления в Лейпциге, Нюрнберге, Бреславле, Франкфурте и иных местах. Так Фельтон и его актеры оказались в Риге, и слухи об этом достигли московского Кукуя, поскольку в Риге у многих жителей Немецкой слободы имелись торговые дела.
Клаус фон Штаден договорился с Фельтоном о том, что тот привезет в Москву труппу из двенадцати человек, среди которых будет примадонна копенгагенской оперы Анна Паульсен, приходившаяся Фельтону тещей. Фон Штаден не скупился на посулы, всячески расписывая богатство и щедрость русского царя, особо упирая на то, что в Москве семейство Фельтонов-Паульсенов ждет оглушительный успех и обильная пожива, поскольку им, как первооткрывателям театральной игры в Москве, достанутся самые жирные сливки монарших милостей.
Московская гастроль должна была вот-вот начаться, но тут среди актеров труппы, уже было согласившихся ехать в Москву, пошел слух, что иностранцев в Московии окружают богатством и почетом, но назад не отпускают, и живут они там, словно в золотой клетке, до самой смерти. За примером ходить было недалеко. Если история о том, как ученого монаха Максима Грека, приглашенного в Россию для исправления богослужебных книг, до конца дней заперли в русском монастыре, не была известна в Европе, то коллизия, связанная со сватовством датского королевича Вольдемара к московской царевне Ирине, имела поистине общеевропейский резонанс!
Сын датского короля от морганатического брака, увенчанный титулом графа Шлезвиг-Голштинского, в силу своего происхождения не могший претендовать на датский престол, по приглашению русской короны, после долгих предварительных переговоров, прибыл в Москву для сватовства к русской царевне Ирине, дочери Михаила Федоровича. Приняли его с большим почетом, богато одарили, поселили в хоромах и окружили заботой, но невесты показать никак не желали, говоря, что у русских так принято, а главное, стали всячески склонять гостя-лютеранина к принятию православия, намекая на то, что жить ему придется в Москве, а здесь лучше принадлежать к главенствующей религии.
У графа Вольдемара были совсем иные планы — он собирался уехать с молодой женой в Шлезвиг-Голштинию, назначенную ему в управление от отца, а вовсе не жить «в зятьях» у русского царя; но, главное, он не желал менять веру.
После долгих препирательств Вольдемар чуточку уступил, согласившись на то, что дети, рожденные в браке с Ириной Михайловной, будут крещены по православному обряду; в этом был особый резон — один из их отпрысков мог унаследовать русский престол, и лучше заранее было устранить препятствия религиозного характера. На остальное граф никак не соглашался; в конце концов он решил отказаться от сватовства и уехать домой, но не тут-то было: его не отпустили, так прямо и сказав, чтобы «не было сраму русской короне в иных странах».
После этого на упрямого датчанина снова насели с уговорами, а он, будучи человеком твердых правил, стоял на своем и потихоньку готовился к отъезду. Не получив разрешения на выезд, он надеялся покинуть Москву без оного, но был со своей свитой остановлен стрельцами у Тверских ворот. Датчане попытались прорваться и в свалке двух стрельцов закололи насмерть, но их, разумеется, принудили вернуться назад и определили под усиленный караул.
Учтя этот горький опыт, в другой раз принц попробовал выбраться нелегально, переодевшись и затерявшись среди людей в обозе литовских купцов. Но и этот номер не прошел: за ним слишком хорошо присматривали — подготовка к побегу и переговоры с литовцами не прошли мимо соглядатаев. Когда бежать не удалось и во второй раз, Вольдемар стал писать письма отцу, прося вытащить его из русской ловушки. Эти послания, пересылаемые с верными людьми, достигли адресата, и из Копенгагена в Москву полетели дипломатические ноты с требованиями отпустить принца.
Назревал крупный международный скандал, но русские ни в какую не желали отпускать жениха, отписываясь тем, что, дескать, он сам хочет жить в Москве. Несмотря на упорство Вольдемара, опекавшие его бояре все никак не могли отказаться от мысли купить его, уломать, задобрить, совершенно искренне полагая, что датчанин просто «ломается», хитрит и «набивает себе цену».
От назойливого гостеприимства несчастного графа Шлезвиг-Голштинского спасла только перемена правления: царь Михаил Федорович умер от внезапного приступа болезни, известной под старинным названием «грудная жаба», а вступивший на престол его сын Алексей Михайлович датчанина удерживать не стал. Он принял его, обещал отпустить с почетом, но принц, полтора года проживший в Москве принудительно, не дожидаясь прощальных даров и пышных эскортов, спешно покинул русскую столицу и уже с дороги благодарил царя письмом.
История эта наделала шума в Европе. И как ни убеждал фон Штаден актеров, что все это, может быть, когда-то и было, но времена уже давно поменялись и никого насильно в Москве не держат, рисковать, проверяя справедливость его слов, большая часть труппы не решилась, и пришлось Клаусу фон Штадену ехать в Москву с трубачом и тремя музыкантами. Ехал он, терзаемый сомнениями, опасаясь наказания за неисполнение задания и зря потраченные деньги, но оказалось, что тревожился он совершенно напрасно: к тому времени, когда он вернулся в Москву, там уже состоялось первое представление местного театра!
Ожидая приезда профессиональной труппы, Артамон Матвеев, с разрешения государя, решил дать шанс местным любителям и обратился к пастору Грегори. Пастор Грегори, оценив перспективу и риск предложения, отнекиваться не стал. Да и, собственно говоря, деваться ему было некуда. Но в конце концов — не боги горшки обжигают, а театр хоть дело и хитрое, но не труднее богословия, которое Грегори превзошел, когда в этом возникла потребность. Некоторый опыт у него имелся, а дебютировать на большой сцене ему предстояло не в избалованном зрелищами Париже, а всего лишь в Москве, где при всей сложности специфики взаимоотношений особо искушенных театральных гурманов было не найти днем с фонарем.
Подбадривая себя столь утешительными рассуждениями, пастор бойко принялся за дело. Прежде всего он засел за пьесу. Главной проблемой было отношение к готовящемуся действу православной церкви, а потому, не мудрствуя лукаво, пастор выбрал для переделки в пьесу один из библейских сюжетов и, собравшись с силами, написал комедию «Агасфер и Эсфирь». Писал Грегори по-немецки, а перевод на русский сделал, пользуясь славянской Библией. Конечно, кое-что ему пришлось переименовать, и в русском варианте пьесы Агасфер стал Артаксерксом, а сама пьеса называлась «Артаксерксово действие», но сути это не меняло. Хитрец Грегори умудрился угодить царю изначально: сочиненная им пьеса своим смыслом указывала на историю второго брака русского царя. Судьба Эсфири походила на судьбу Натальи Кирилловны, Мардохей вызывал ассоциации с Матвеевым, под Аманом можно было разуметь царского дворецкого Богдана Матвеевича Хитрово.
После того как пьеса была готова, Грегори, по рекомендации Матвеева, вызвали во дворец, и царь указал ему «учинить комедию, и на комедии действовать из Библии книгу Эсфирь, и для того действа устроить хоромину». Словом, все было разыграно Матвеевым и Грегори, как по нотам.
Местом устроения «комедийной хоромины», в которой предстояло разыграть готовившееся действо, определили село Преображенское; все работы по обустройству первого русского придворного театра велись под наблюдением Матвеева. В конце октября 1672 года «хоромина» была готова, и начали ее внутреннюю отделку, которая должна была поразить своей роскошью и великолепием: стены зала драпировали «черевчатым» (красным) и зеленым сукном. Росписью «хоромины» и устройством декораций занимался гамбургский живописец Петер Шимс, которого в русских документах называли «мастером перспективного дела». Оркестр составили домашние музыканты Артамона Матвеева, которыми руководил органист новой кукуйской кирхи Симон.
С постановкой спектакля помогал прежний коллега Грегори, учитель Георг Хюбнер (его фамилию и имя на русский лад переиначивали на Юрий Гивнер), вместе с которым они приехали в Москву. Судьбы обоих были схожи — как и Грегори, Хюбнер был саксонцем, как и Грегори, он отправился на поиски счастья и в 1649 году поступил в польскую армию. Прослужив семь лет, Хюбнер в бою под Дубровной попал в плен к русским. Его отправили в Смоленск, где он прожил несколько лет, пока ему не удалось связаться с соотечественниками, жившими в Немецкой слободе Москвы. ЗаХюбнера стали хлопотать полковник фон Ховен и Вилим Брюс, к словам которых прислушивались при русском дворе; они просили разрешить пленному офицеру учить латыни и немецкой грамоте детей в Немецкой слободе. Разрешение на это было дано в 1658 году, когда через Смоленск проезжал Грегори; Хюбнер присоединился к нему, они вместе прибыли в русскую столицу, и оба учительствовали, пока Иоганн Готфрид не избрал благой удел священства.
Живя в Немецкой слободе, Георг Хюбнер женился на дочери кукуйского обывателя Андрея Юта, завел хозяйство, зажил своим двором; с Грегори они продолжали дружить. Когда потребовалась помощь в устройстве театра, он взял на себя часть хлопот, войдя в команду помощников пастора вместе Тимофеем Гасенкраухом, Иоганном Пальцером и Лаврентием Ринхубером. Репетировали с труппой Гассенкраух, который был в Немецкой слободе «известный игрец» (то есть актер), и Ринхубер, уже хорошо говоривший по-русски и имевший опыт игры на сцене во время учебы в Лейпцигском университете.
Работы шли полным ходом, но точно не было известно — состоится спектакль или нет. Царь, даже отдав приказ готовить действо, все же сомневался, не совершает ли он греха. Вопрос, как театральная игра выглядит с точки зрения канонов православия, был далеко не праздным для государя православной державы. В Москве той поры были запрещены светское пение, танцы и игра на большинстве музыкальных инструментов. Само лицедейство ревнители религиозных устоев почитали бесовщиной, равной скоморошеству, давно запрещенному и заклейменному церковью по причине безнравственности. Хотя в случае скоморохов сыграло роль и то, что они были горазды на похабщину, а их прибаутки и куплеты сплошь состояли из самой отчаянной матерщины, за которую в Московии полагалось битье кнутом, а в случаях богохульства и урезание языка.
Поразмыслив, царь решил посоветоваться с высшим духовенством и спросил у патриарха: можно ли дозволить немцам играть при его дворе комедию? Патриарх, сославшись на опыт христианских владык, в особенности на императоров Византии, имевших подобные зрелища при своих дворах, ничего предосудительного и греховного в подобном действе не нашел.
Премьера «Артаксерксова действа» была дана 17 октября 1672 года. Это было богатое представление с огромной массовкой и множеством персонажей, длившееся более десяти часов, в течение которых на сцену выходили более шестидесяти актеров, певцов и танцоров; это были ученики Грегори — дети офицеров, купцов, ремесленников Кукуйской слободы. Очевидцам запомнился на сцене Лаврентий Христиан Блюментрост, младший сын доктора Блюментроста (сводный брат пастора Грегори), который исполнил одну из главных ролей. Но те же очевидцы забыли указать, кого именно изображал юный Блюментрост: Эсфирь или Артаксеркса? Не исключено, что именно Эсфирь, поскольку Лаврентию Христиану было только семнадцать лет, а по обычаю старинного театра женские роли получали юноши или даже старшие мальчики, не имевшие бород и усов. Впрочем, таковых в труппе Грегори было большинство, и возможно, что молодой человек, как едва ли не старший из актеров, подвязав фальшивую бороду, играл как раз Артаксеркса.
Царское семейство взирало на спектакль, сидя в креслах, обитых красным сукном, а остальная свита разместилась на простых деревянных скамьях. Царь с царицей были совершенно захвачены спектаклем, буквально не отрывали от сцены взоров. Они отлично поняли главный намек автора пьесы и по достоинству оценили старания Грегори.
По окончании представления Грегори поднес его величеству текст пьесы, переплетенный в сафьян с позолотой. Царь, пожелав выразить благодарность участникам спектакля, спросил: каких они желают для себя наград? Один из актеров-любителей сказал, что давно мечтает о воинской карьере, и попросил для себя чин стрелецкого сотника — его просьба была немедленно исполнена.
После явленного Грегори царского благоволения изменилось положение его отчима и отца Лаврентия Христиана — доктора Блюментроста. Ему дозволили начать медицинскую практику в Москве, и с тех пор его карьера шла только в гору. Доктор был удостоен личной аудиенции, в ходе которой от него были приняты рекомендательные письма курфюрста Саксонского. В финале аудиенции Алексей Михайлович наделил Блюментроста подарками: пожаловал деньгами, бархатом, сукном, соболями и серебряной посудой, а главное, объявил свою волю, что отныне он назначен лейб-медиком. Блюментросту было положено немалое жалованье — 130 рублей на год, а также «столовые деньги» — по 50 рублей в месяц.
Успех вдохновил Грегори на новые спектакли. Перед Рождеством состоялось еще несколько представлений «Эсфири». Это привело к щедрой царской награде: за свои труды 21 января 1673 года он получил в награду «сорок» соболей, то есть связку собольих шкурок, из которых можно было пошить одну шубу.
На следующий день, в годовщину бракосочетания с Натальей Кирилловной, царь, находя, что многочисленному царскому семейству неудобно зимой ездить в Преображенское смотреть спектакли, приказал: «…над аптекой, что на дворце в палатах, построить хоромину как быть комедийному действу». С устройством «хоромины» спешили — 25 человек работали днем и ночью, а в росписи помещений и подготовке декораций была занята целая артель живописца Андрея Абакумова со товарищи, которыми руководил придворный мастер «перспективного письма» Петер Инглис, свояк Хюбнера и старый знакомый Грегори.
Со всеми делами управились к началу Масленицы. В этом новом помещении было дано несколько представлений новой пьесы, в которых приняли участие ученики Грегори из Немецкой слободы и оркестр немецких музыкантов. Эту пьесу Грегори создал тоже на библейский сюжет «Юдифь и Олоферн», по изложению славянской Библии, со вставными номерами арий и хоров из разных немецких обработок сюжета о Юдифи. На русский лад спектакль назывался «Как Юдифь отсекла голову царю Олаферну». А в конце Масленичной недели в кремлевском придворном театре состоялась премьера балета на музыку композитора Генриха Щютца «Орфей и Эвредика». Этот балет впервые был поставлен на сцене дрезденского театра в 1638 году и с тех пор игрался несчетное количество раз; для саксонцев, служивших при русском дворе, это была своего рода «театральная классика».
В бумагах сына польского дипломата Рейтенфельдса, жившего тогда в Москве, сохранился отчет об этом представлении, написанный им «по горячим следам»: «Узнавши, что при дворах других европейских государей в употреблении разные игры, танцы и прочие удовольствия для приятного препровождения времени, царь нечаянно приказал, чтобы все это было представлено в какой-то французской пляске. По краткости назначенного семидневного срока сладили дело, как могли. В другом месте прежде представления следовало бы извиниться, что не все в должном порядке; но тут это было бы совершенно лишнее: костюмы, новость сцены и стройность неслыханной музыки, весьма естественно, сделали самое счастливое для актеров впечатление на русских, доставили им полное удовольствие и заслужили удивление. Сперва царь не хотел, чтобы тут была музыка, как вещь новая и некоторым образом языческая; но когда ему сказали, что без музыки точно так же невозможно танцевать, как и без ног, то он предоставил все на волю самих артистов. Во время представления царь сидел перед сценой на скамейке; для царицы с детьми (от первого брака) был устроен род ложи, из которой они смотрели из-за решетки, или правильнее сказать, через щели досок, а вельможи (больше не было никого) стояли на самой сцене. Орфей прежде, нежели начать пляску между двух подвижных пирамид, пропел похвальные стихи царю».
Спектакль имел огромный успех, о чем свидетельствует то, что на Пасхальной неделе, 6 апреля 1673 года, пастор Грегори, Георг Хюбнер и все остальные «комедианты» были приглашены в царский дворец и допущены к руке Алексея Михайловича. Это был знак неслыханной милости — прежде ни один лютеранский пастор и дети иностранцев к царской руке не допускались! И мало того: после этого артистов и их наставников пригласили к праздничному столу, чего удостаивались далеко не все московские бояре.
Назад: 5. Иноземные школы
Дальше: 7. Шотландские карьеры

