Книга: Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени
Назад: Опоздание ценою в царство
Дальше: Библиография
Россию разлучают с Балтикой
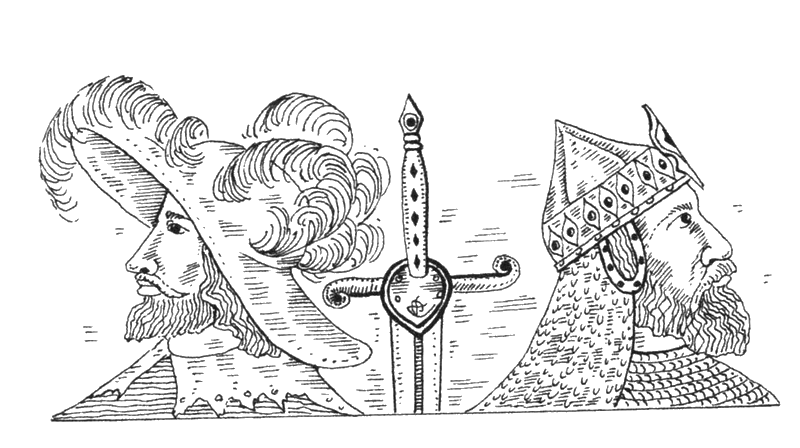
Едва отгремели на Москве пиры по случаю коронации Михаила и бояре вытерли о драгоценные бархатные скатерти руки, испачканные жиром нежной ряпушки из Плещеева озера что под Переславлем — ее подавали в заключение застолья в честь признания многовековой верности Переславля Москве, как Посольский приказ стал собирать первое после Смуты заграничное посольство к римскому императору Матфею. С этого единственного, как считали в Москве, равного по достоинству русскому царю властителя Москва собиралась начать восстановление прерванных Смутой связей с Европой. Посланцы Михаила должны были добиться признания его римским цесарем в качестве единственного законного правителя России и искать пути посредничества в установлении мира с Польшей и Швецией.
Дьяки отсчитывали связки сибирских соболей по сорок шкурок в каждой — на взятки императорским вельможам и чиновникам, — а назначенные в посольство дворянин Степан Михайлович Ушаков и дьяк Семый Заборовский брали под запись дорогие казенные одежды — от платьев с кружевами и бархатных колпаков, унизанных драгоценными камнями до поясов, расшитых серебром и золотом, в которых они должны были представлять царя Михаила Федоровича при цесарском дворе. Все, чего недоставало по бедности в Посольском приказе, вплоть до перстней и дорогих ожерелий, Ушаков и Заборовский собирали, как водится, по друзьям и знакомым: иностранцы должны были видеть, что Московское государство снова богато и царские слуги ни в чем не нуждаются. Впрочем, дьяки понимали, что пустить пыль в глаза Европе на этот раз не удастся — дары императору получились не в пример прошлым временам скромные, даже пришлось писать объяснение: поляки в Кремле все сокровища разграбили, поэтому пусть цесарь не думает, что великий князь решил его унизить столь жалкими подношениями.
Послам предписывалось не мешкая отправиться в Вологду, а оттуда в Архангельск, чтобы уже в июне отплыть на одном из купеческих судов в Любек, а далее сухим путем добираться до цесарских владений — искать императора, там где он будет.
В подробной инструкции излагалась вся история Смуты в благоприятной для царя Михаила интерпретации. Говорилось также о «неправдах» польского и шведского королей, Сигизмунда и Карла IX, сыновья которых якобы были один за другим избраны на московский престол.
Польского королевича Владислава московские люди, как гласила реляция, отвергли из-за обмана Сигизмунда, который захватил Смоленск, пленил посланное к нему русское посольство и отказался крестить сына в греческую веру, как обещал. Шведы были также виноваты перед русскими. Царь Василий Шуйский сполна расплатился за их военную помощь, но шведы коварно предали союзников во время сражения под Клушином, а затем Якоб Делагарди «искрадом за крестным целованием взял» Новгород. Впрочем, германскому императору не следовало придавать значение этому военному успеху. Царь послал на Новгород рать, которая побила шведов. «Ныне, чаем, Свейские люди из Новагорода и из пригородков от Государевых людей выбежали», — должны были заявить послы.
В Германии слышали, что ополчение избрало в Ярославле на русский престол шведского принца. Ко двору императора в Прагу был послан из Ярославля в июне 1612 года переводчик Еремей Еремеев Вестерман. Он вез грамоту от князя Пожарского с просьбой о денежной помощи и призывом умиротворить польского короля Сигизмунда. В письме сообщалось, что государя на Руси пока нет, этот вопрос решат после установления мира, но гонец от себя рассказал, что ополчение в Ярославле уже остановилось на кандидатуре шведского принца.
Ушакову и Заборовскому предписывалось этот факт попросту отрицать, не пытаясь, как в случае с Владиславом, отделаться полуправдой: «А будет Цесаревы думные люди учнут говорити: сказывал им переводчик Еремей Еремеев, который прислан из Ярославля, что обрали были Московского Государства бояре и воеводы и всякие люди на Московское государство Королевича Свейского Карла Филипа, и Новгородский митрополит Исидор и боярин и воевода князь Иван Одоевский и записми и крестным целованием с Яковом о том укрепились, что взяти на Московское Государство Карлусова сына Карла Филипа, — и Степану и дьяку Семому говорити: „то переводчик Еремей говорил не ведая, или затеял собою напрасно; нам про то подлинно ведомо: ни в мысли нашей всех того не было, что было обрати Карлова сына, видели мы, всякого зла много от Полского Королевича, о том у нас у всех Росийского Государства людей крепкий совет и утверженье и крест меж себя целовали на том, что ни из которого Государства, никого не из Российских Государств никоторого Государского сына не Греческие веры на Государство не обирати; а будет какие записи Яков Пунтусов велел митрополиту и князю Ивану Одоевскому написати и руки приложити в неволе, силно под саблею, того нам не ведомо“».
На вопросы о возрасте 17-летнего монарха Ушаков и Заборовский должны были отвечать, что ему исполнилось восемнадцать лет, поскольку возведение на престол несовершеннолетнего могло вызвать сомнения в Европе, а характеризовать Михаила следовало выстраданной в палатах Посольского приказа готовой формулой, не пускаясь в импровизации: «Бог Его Царское Величество украсил дородством, и образом и, храбрством, и разумом, и счастьем, и ко всем людем милостив и благонравен. А которая была в Российском Государстве до него Государя смута и рознь и в людех скорбь, того в радости забыли, кабы ничего не бывало».
Посольство провело за границей целый год, удостоилось приема в Линце у римского императора, завернуло в Голландию, успешно вербовало аптекарей, врачей и серебряных дел мастеров для России в Гамбурге и Любеке: Ушаков и Заборовский вернулись в Москву в конце августа 1614 года с сознанием исполненного долга, ожидая царской награды.
И тут разразилась буря. Боярская комиссия во главе с Федором Мстиславским, изучая привезенные послами ответы заграничных правителей, обнаружила, что главная цель посольства не достигнута: римский император не признал Михаила Федоровича! Если Голландские Штаты передали в Москву грамоту, где были указаны полный титул царя и его имя, то документ, врученный послам в Линце, не дотягивал до высокого звания грамоты, проходя по низкой категории «ответ». Более того, имени Михаила Федоровича там не было — везде значился лишь абстрактный Царь и Великий Князь. Император Матфей явно решил подстраховаться, не зная, кого же русские признают своим царем на самом деле: Михаила, Владислава, Карла Филипа или очередного Дмитрия!
Может быть, не сведущие в иностранных языках Степан и Семый просто не поняли, что там накалякали по-немецки ловкие приближенные императора Матфея? Перед грозными дознавателями предстал переводчик Тимофей Фанебич, сообщивший, что он сразу после приема у цесаря перевел ответ послам, но те не удосужились отослать оскорбительное послание назад, как должны были те сделать, даже рискуя собственной жизнью. Перетрусившие послы ссылались на неопытность: они впервые выехали за границу и не знали тонких отличий между грамотой и ответом. Имя Михаила Федоровича не было названо, но они думали, что так в Европе положено: ведь и сами немцы своего императора называли просто «Его Величество», как в устном общении, так и на письме.
Бояре еще готовы были снизойти до неотесанности Степана в вопросах дипломатии, но дьяк Семый долго служил в Посольском приказе и обязан был вступиться за царскую честь! Расспрос о ходе приема у императора показал, что послы и там умудрились уронить честь своего государя. Император Матфей, оказывается, ни разу не встал, как делали его предшественники, при упоминании имени русского царя, а лишь слегка приподнимался в кресле и снимал шляпу, что являлось неслыханным оскорблением. Послы были обязаны тут же заявить протест, а не терпеть подобное издевательство! Отвечали Семый и Степан покаянно, что виноваты, достойны смерти, но «учинили они то простотою, а не изменою и не умышленьем».
Однако обвинения в измене еще следовало опровергнуть. Провинившихся послов отдали приставам, их животы — то есть имущество — опечатали, а опытному в делах дознания думному дьяку Петру Третьякову поручили выпытать наедине у Тимохи — переводчика в деталях: как вели себя за границей послы, не жили ли по отдельности, не встречали ли днем или ночью гостей для тайных переговоров, как чтили на пирах своего государя и не дрались ли Степановы люди с немцами, а если дрались или секлись на саблях, то из-за чего и чем кончилось, какие подарки цесарь вручил послам при прощании и не утаили ли они чего? Перепуганный Тимофей отвечал как на духу.
Степан и Семый чести царской не уронили, пили всегда за его здоровье и держались всегда вместе, приглашая при разговоре с посланцами цесаря его, Тимофея. Правда, по бытовой части посольство шум за границей подняло, признался Тимоха. Прежде его о том не спрашивали, он и молчал, а теперь скажет. Передадим похождения послов в красочном изложении протокола дознания, сохранив стилистику того времени:
«А драка Степановым людем с Цесаревыми людми учинилась за то (делалось перед их отпуском, как им быть у Цесаря, за день): шла мимо Степанова двора девка, служащая шляхетного дому ото вдовы, а та вдова зговорена за Цесарева порутчика; и те Степановы люди, вышед с двора за ворота, тое вдовину девку ухватили и повалили; и увидев то порутчиков слуга, который ее провожал, тотчас подал весть порутчику, и порутчик, прискоча, девку отнял, и тут меж ими учинилась брань; и порутчик Степановых дву человех бил плашма и их ранил слегка; и приходил порутчик к Степану в том на людей его жаловаться, а Степан посылал к ближним людем на порутчика бить челом его, Тимофея. И Цесарю про тое драку учинилось тотже час ведомо, и Цесарь тот час велел про то сыскивать; и порутчик, услышев про сыск, ухоронился, и сказали, что его нет, без вести; и Цесарь велел тех Степановых людей лечить своим лекарем; и Степан посылал его Тимофея к маршалку о увечье людей своих бити челом и чтоб ему дали за людей его увечье из порутчиковых животов, и Степану в том отказали, а сказали что его нет, без вести, а рухлядишко его служилая запечатна, да и для того ему отказано в увечье, для чего де люди его ночью с двора сходят и задор с здешними людми чинят? Да Степанов же человек на том дворе, где стоял, хотел у дворника жену обезчестить; и дворник, услышев, за ним гонялся с протазаном и хотел его сколоть. А Степан, ведая людей своих воровство, от того их не унимал. Да Степановы же люди, напився пьяни и сидя в ночи долгое время, зажгли были в хоромах постелю, и толко бы вскоре сторожи не услышали, и от того бы учинился пожар. И он Тимофей Степану на людей его про их воровство сказывал и сам их унимал, чтоб они, будучи в чюжей земле, и такого безчестья не делали. И Степановы люди его Тимофея били, а Степан того не сыскивал. Да будучи в том городе, где Цесарь, и едучи дорогою, Степан и Семой пили и меж себя бранились и неоднова, а о чем они, бранились, того он не ведает. Да как они шли назад, от Цесаря Бранденбурского Кухфистра в город Берлин, и на осподе играли меж себя дворяня карты и пришед к ним к столу Степанов поваренной детина пьян, и учал у них карты переворашивати, и дворяня почали ему Тимофею о том детине невежестве говорити, чтоб его отослати; он, Тимофей, видя то, что тем дворяном стало, то за великую досаду, того детину, от стола отпихнул прочь; и детина хотел с ним подраться, и он Тимофей того детину слегка деревцом ударил; и Степан дей его, Тимофея, не сыскав, за малого своего бил по щекам до крови, про то Семому ведомо. Да в Амборху (Гамбурге. — А. С.) были Степан и Семой у Аглинского воеводы у Курмистра в гостех, и шла того воеводы дочь двором в иные хоромы, и Степанов человек, напився пьян, тое воеводскую дочь безчестил, и его за то хотели сколоть кордами, и от того немного драка не учинилась. Да в Аглинской земли (ошибка в тексте — послы были в Голландии, в Гааге. — А. С.) стояли Степан и Семой у казначея, который платить ратным людем из казны за служилое, и тут Степанов же детина, напився пьян, обезчестил, хватался руками за казначееву дочь, и он Тимофей от того учел унимати, и его Степан про то не сыскивал и управы не чинил. Да и во многих местах Степан и Семой пировали, пили и многие простые слова говорили, которые в тамошних землях Государеву имяни к чести не пристоят. Да переводчик же Тимофей Фанемин сказывал: сказывал де при нем, Тимофее, Степану и Семому Карло Цесарев думной, который послов принимает, а к ним к Степану и к Семому приезживал, что Цесарева жалованья изготовлено Степану чепь с Цесаревою парсоною (парсуной, то есть портретом императора. — А. С.), парсона с каменьи и жемчюги, а Семому чепь с парсоною ж золотою; и дали де им чепи без парсон. И он де Тимофей спрашивал пристава их Цесарева дворянина Якуба: преж сего слышели они, что Цесарево жалованье чепи Степану и Семому изготовлены с парсонами, а дали без парсон? И пристав де Якуб ему Тимофею сказал: как де принесли к Цесарю чепи казать, что им дати, и Цесарь де парсоны велел отняли: „Слышел де яз про них, что они люди простые, неученые, ничего доброго, опричь дурости, не делают; прежде сего никоторые послы и посланники, которые прихаживали от Московских Государей, так непригоже не делывали, и таким де бездельникам собакам парсоны моей давать не пригоже“».
Степан и Семый пытались опровергнуть сказанное переводчиком, заявив, что он сам в европах пьянствовал без просыпу, но вернуть к себе доверие дознавателей им так и не удалось. К списку преступлений послов добавилось и взяточничество: они по собственной воле, ради получения подарков от купцов, приехали в Голландию, посетив князя Морица Оранского и приняв от него дары царю. Это было бесчестье: ведь царь ничего не передавал князю. Не имели права послы брать грамоту и от Гамбургского городского совета, поскольку этот город формально входил во владения датского короля. Причина несанкционированной посольской активности была все та же: Степан с Семым выбирали маршруты путешествий и партнеров по переговорам, исходя из собственных корыстных интересов.
Наконец дознание было завершено, и высокая комиссия, посовещавшись, вынесла свой вердикт, приказав послам скинуть порты. Для науки им всыпали плетей и розог, после чего отпустили с миром. Дело могло бы окончиться и хуже — усечением глав, да знающих людей в разоренной Московии не хватало, потому и поберегли дознаватели гуляк и пьяниц. Надо заметить, что похождения Степана и Семого заставили Посольский приказ внимательнее отнестись к пагубной дружбе своих сотрудников с зеленым змием, и уже в 1649 году русские послы, отправленные в Швецию заключать договор о перебежчиках, получили следующий примечательный наказ: «А дворяном и посолским людем приказати накрепко, чтоб они сидели за столом чинно ж и остерегателно, и не упивались, и слов дурных меж собою не говорили; а середних и мелких людей и упойчивых в полату с собою не имати, для того чтоб от их пьянства безчинства не было, а велеть им сидети в другой полате по тому ж, стройно, а бражников и пьяниц на королевин двор с собою не имать».
Анекдоты о «подвигах» русского посольства в 1614 году долго гуляли по европейским столицам, формируя пренебрежительное отношение к «казачьему царю» и его приближенным.
В Стокгольме считали, что не признанный в Европе властитель, окруженный никчемными дипломатами и неумелыми полководцами, должен был пойти на прямые переговоры со шведской короной. Однако русские вели себя так, словно были сильны и по-прежнему могли диктовать свою волю соседям. Король Густав Адольф в раздражении писал Государственному совету в июле 1614 года: «Что бы Мы ни делали, русские становятся все более высокомерными и упрямыми». Московиты, как считал король, не желали слушать разумных предложений из-за своих врожденных пороков. Известно, что эту нацию отличали «дурная природа и грубое высокомерие», затруднявшие цивилизованное общение даже с лучшими ее представителями.
Швеция отчаянно нуждалась в мире на востоке, чтобы выстоять против поляков и датчан, которые в любой момент могли вновь заявить о своих претензиях к Стокгольму пушечными залпами. В январе 1614 года удалось заключить двухлетнее перемирие с Польшей, и нужно было использовать эту временную передышку, чтобы примириться с Московией. Жители Швеции и в особенности Финляндии страдали от бесчинств размещенных там наемных войск и едва выдерживали бремя военных расходов. Подданные Густава Адольфа не понимали, зачем Швеции нужны русские земли, опустошенные смутой и населенные враждебным народом. «Крепости на востоке, захваченные шведами, необходимы для безопасности страны», — терпеливо объясняли темным массам члены королевского совета. Они «дают русским возможность нападать на Финляндию, поэтому нам лучше встречать врага на его собственной земле, чем пускать его к нам».
Королевские манифесты с объяснением восточной политики, которые зачитывали прихожанам тысячи пасторов во всех церквях Швеции и Финляндии, на какое-то время успокоили недовольство, но новая волна возмущения могла подняться когда угодно. Нужен был быстрый и выгодный мир! Однако король не мог первым протянуть Москве оливковую ветвь, не рискуя, что это будет воспринято как слабость Швеции. Все следовало устроить как новгородскую инициативу, которую снисходительно поддержит Густав Адольф, монарх христолюбивый и великодушный.
Первые попытки прощупать готовность противника к миру были предприняты в начале 1614 года, на самом низком уровне, чтобы в случае неудачи можно было отделаться лишь недоуменным пожатием плеч по поводу ненужной суеты каких-то мелких людишек. К передовым заставам князя Трубецкого был направлен из Новгорода с грамотой посадский человек Иван Филатов сын Железников. Затем предприятие повторили, но дело было представлено так, будто шведы лишь уступают пожеланиям русских. Фельдмаршал Эверт Горн в Новгороде пригласил к себе дворянина Якова Боборыкина, зарекомендовавшего себя по прошлым делам умелым переговорщиком и сторонником союза со Швецией, и попросил его внушить горожанам, что, если те будут бить челом Эверту Горну об отправке посольства «к государевым боярам» о мирном постановлении, он к этой просьбе отнесется благосклонно. «Но бояре не должны знать о состоявшемся разговоре!» — отечески внушал Боборыкину фельдмаршал.
Представительное новгородское посольство отправилось к князю Трубецкому искать с Москвой мира, но прием оказался еще более унизительным, чем прежде. Ответом была лишь грубая брань, причем на этот раз досталось не только «изменникам» новгородцам, но и самому Делагарди, назвавшему письмо князя «бессовестным» и «мужланским». «Тот, кто хочет вести дела с русскими, обязательно должен запастись палкой за поясом», — уверял Делагарди своего друга канцлера.
Гнев новгородского наместника был понятен: предводитель московского воинства в очередной раз обвинил полководца в воровстве денег, предназначенных для выплаты шведским наемникам летом 1610 года. Из-за этого наемники перебежали в разгар сражения при Клушине на польскую сторону, что привело к катастрофе соединенного войска и падению царя Василия Шуйского. Предательство шведов, как утверждал Трубецкой, полностью освобождало нынешнего царя от прежних обязательств Москвы по отношению к Швеции. Русские не собирались даже примириться с передачей шведам Корелы — об этом заявляли их послы при всех европейских дворах, а очищение Новгорода Трубецкой называл в качестве предварительного условия мирных переговоров. Московские бояре, сидя в своей сожженной столице, казалось, сошли с ума, перечеркнув годы смуты и разорения. Они как будто мысленно перенеслись в прошлое, в процветающую и могучую Московию начала правления Бориса Годунова. Об их отказе примириться с действительностью свидетельствовало даже упоминание в титуле царя Михаила «Лифляндский», хотя все попытки московитов захватить эту землю закончились поражением еще при Иване Грозном. Вывод из всего этого можно было сделать лишь один: в Москве просто некому формировать внешнюю политику, основанную на реалиях нового времени.
По доходившим в Стокгольм и Новгород слухам, юному Михаилу Романову Бог отказал в государственном уме и сильном характере, и, как всегда бывает при дворах подобных монархов, окружение погрязло в интригах и борьбе за власть, мало заботясь о государственной пользе. Перебежавший к шведам дворянин Михаил Клементьев свидетельствовал, что молодой царь «не особенно занимается делами управления, а от природы имеет грубый и ограниченный ум и к тому же склонен более к безбожным и мерзким делам содомитского свойства нежели к христианским добродетелям. Поэтому эти содомитские дела входят здесь в ежедневный обиход».
Если в Стокгольме считали русское упрямство не поддающимся логическому объяснению, то и в Москве к шведским притязаниям относились с сарказмом. Лазутчики доносили, что шведское господство в Новгородских землях подходит к концу. Захватчики оказались в положении саранчи, съевшей все вокруг и теперь погибавшей от голода.
Местные крестьяне, ожесточенные поборами, сожгли после окончания молотьбы солому, чтобы она не досталась шведским лошадям. Сена возле Новгорода накосили мало — народишко разбежался, — а в окрестностях Пскова на 100 километров вокруг шведы запретили сеять хлеб и косить сено, желая взять бунтовщиков измором: эта мера впоследствии ударила по ним самим.
Финские солдаты, посланные на заготовки сена, роптали из-за невыплат жалованья и выполняли крестьянскую работу спустя рукава, иностранные наемники вообще отказывались брать в руки косы. К маю 1614 года начался голод, пришедший, как всегда, рука об руку с болезнями. 12-тысячное шведское войско в России было распылено по крепостям, Делагарди мог собрать для отпора Трубецкому лишь пять тысяч озлобленных и оборванных солдат, с трудом волочивших мушкеты. Конным казачьим рейдам ответить было нечем. Три тысячи всадников, устроившись на ставших бесполезными седлах, варили в чанах своих сдохших от голода или собственноручно убитых скакунов.
Делагарди писал королю, что воины «вынуждены есть конину, пока она еще есть, поскольку пехотинцы отбирают у всадников лошадей при любой возможности». Король в ответ советовал спалить и ограбить Новгород, население выгнать, знатных людей вывезти в Выборг в качестве заложников и отступить. Полководцу не следовало идти «против Бога, природы и высших сил до последнего».
Осада лагеря Трубецкого у Бронниц шла из рук вон плохо и могла в любой момент привести к бунту шведских наемников. Казаки стреляли из луков в направлении противника «агитационными стрелами», с привязанными к ним листовками, в которых призывали шведов переходить на их сторону, обещая, что ни в еде, ни в деньгах недостатка не будет. Полсотни человек уже перебежало к русским, остальные пока стояли на позициях, мечтая дождаться приезда в лагерь Делагарди, чтобы его растерзать. Однако полководец, умудренный печальным клушинским опытом, войскам не показывался, предпочитая следить за развитием событий издалека.
К концу июня, однако, позиционная война у Бронниц принесла шведам крупный успех. Казаки Трубецкого располагались в четырех шанцах, устроенных по обеим берегам реки Меты, и вызвать их из укрытий на открытый бой было невозможно. Два полковника, шотландец Коброн и голландец Моннихофен, руководившие осадой, медленно и упорно тянули апроши к позициям русских, и, постепенно приблизились к ним так близко, что слышны были разговоры в лагере противника. 27 июня Коброн повел свой полк на штурм одного из шанцев и, уничтожив 300 его защитников, взял земляную крепость. Еще один шанец пал под градом камней, которыми шведы осыпали казаков из подведенных под самые валы мортир. Трубецкой было разгромлен. Большая часть его войска разбежалась, а 400 казаков, сдавшихся на милость победителя, встретили страшную участь. Всех их зарубили по приказу Делагарди, отомстившего таким образом Трубецкому за его оскорбительное послание.
Последний удар по московитам, который должен был заставить их сесть за стол переговоров, решил нанести лично король. Юный монарх не мог смириться с мыслью, что в лавровом венке героя, который когда-нибудь увенчает его голову, не будет листьев за разгром русских. Густав Адольф объявил, что лично возглавит войска, которые приступят к осаде Гдова — крепости, оберегавшей подходы к последнему большому оплоту русского сопротивления на северо-западе — Пскову.
Напрасно королева-мать и советники уговаривали упрямца остаться в Швеции. Пусть Густаву Адольфу не дорога собственная жизнь, но ему следует подумать об интересах государства! Ведь если король будет убит, Швеция станет легкой добычей ее врагов! Войска в России ненадежны, монарх может оказаться в руках бунтовщиков. А в случае поражения насколько тяжелее будет заключить мир с русскими! Ведь победа над королем ценится куда выше разгрома одного из его подданных — тщеславные московиты будут глухи к любым призывам к миру. Наконец, поход Густава Адольфа в Россию придаст военной кампании совсем другое значение, русские воспримут это как вызов, и тогда уже точно длительной войны не избежать. Швеция же преследует в России, как пытался внушить воинственному юноше канцлер Оксеншерна, куда более скромные цели. Война ведется «более ради безопасности государства и достижения мира, чем из-за враждебности или стремления заполучить большие территории и множество крепостей».
Все увещевания были тщетны. Густав Адольф с детства отличался сильной волей и упрямством. Он — король, и он принял решение. Честолюбивые мысли подкреплялись и романтическими мотивами: Густав Адольф переживал свою первую любовь и мечтал положить к ногам избранницы, Эббы Брахе, состоявшей фрейлиной при его матери, покоренную русскую крепость. Незримые путы, свитые родными и советниками, были порваны, и Густав Адольф в конце августа появился в шведском лагере под Гдовом.
Хотя король благоразумно не вмешивался в распоряжения опытного Эверта Горна, возглавлявшего осаду, показывая, что прибыл под стены крепости учиться военному делу, а не отдавать распоряжения, психологический эффект от его присутствия был велик. Защитники Гдова понимали, что лишь крайняя необходимость может заставить шведов снять осаду, поскольку в их лагере находится королевская ставка.
После многодневного артиллерийского обстрела, в результате которого обрушилось более трети 400-метровой стены, окружавшей крепость, и двух яростных штурмов 10 сентября 1614 года Гдов пал. Русские выторговали себе почетную капитуляцию: в обмен на сдачу крепости Густав Адольф разрешил им свободно уйти куда вздумается, с оружием и всеми пожитками.
Десять дней спустя после этого триумфа король отправил Эббе Брахе письмо, написанное в высокопарном стиле того времени. Это был отчет богобоязненного рыцаря о подвиге, совершенном во имя прекрасной дамы: «В особенности возношу я хвалы всесильному Господу, который удостоил меня чести осилить моих врагов».
Пошли дожди, дороги размокли и вот-вот могли стать непроезжими: природа своей властью объявляла перерыв в военных действиях до зимы. Больше в России делать было нечего. В конце сентября триумфатор вернулся в Швецию, оставив Эверту Горну инструкцию, предписывавшую заставить Новгород просить о вхождении в состав Швеции. Это письмо фельдмаршал благоразумно скрыл от новгородцев, боясь открытого разрыва с ними.
К концу 1614 года Швеция получила новые козыри для мирных переговоров с Москвой: Трубецкой был разбит, Гдов взят, в шведском тылу оставался лишь Псков, надежно изолированный окружающими шведскими крепостями. И тем не менее «казачий царь» Михаил Федорович не торопился мириться со шведами, принося на алтарь новой дружбы свои города и сокровища. Да и зачем было спешить, если Бог, по всему видно, вновь обратил свой благосклонный взгляд на православных? Следы польского разорения в Москве еще были видны, но черные пятна пожарищ съеживались с каждым днем, уступая место новостройкам. По всей столице стоял стук тысяч топоров: артели плотников возводили новые избы и купеческие палаты из готовых деревянных конструкций, продававшихся на особом «строительном» рынке. Хороший дом поднимался за день. Москва забыла и о недавнем голоде. Стоило только разогнать царским войскам разбойничьи шайки, промышлявшие по дорогам, как с востока и юга потянулись в столицу продуктовые обозы. Всего было вдоволь, еда подешевела. Московское изобилие бросалось в глаза и лучше всяких уговоров склоняло новгородское посольство архимандрита Киприана в пользу царя.
Ведь в самом Новгороде от непрекращающейся войны и шведских поборов речь шла об элементарном выживании. Каждый день там сбрасывали в общую могилу по полсотни жителей, умерших от голода и болезней. В телеги с трупами впрягались люди: лошадей давно съели или отдали в счет содержания шведского гарнизона.
Принц Карл Филипп превращался в сознании новгородских послов, пораженных московскими переменами, в призрак с далекого Севера, тень которого лишь на короткое мгновение легла на Великий Новгород. Да и был ли он вообще? Первым принес тайную присягу Михаилу Федоровичу дворянин Яков Боборыкин, которому Делагарди и Горн доверяли более всех остальных новгородцев. За ним решились на смену властелина и другие, когда вместе с московскими боярами придумали способ защитить Новгород от шведского гнева. Киприан получил две грамоты — одну, суровую, для шведов, в которой царь возмущался предательством новгородцев и грозил им всяческими карами. Другая, настоящая, предназначалась для тайного распространения среди жителей. В ней Михаил Федорович скорбел о тяжелой судьбе Новгорода, оказавшегося временно во власти врага, и обещал его скорое освобождение. Бояться новгородцам было нечего: царь обещал им свою милость и снисхождение.
Так Новгород и Москва за спиной шведов протянули друг другу руки дружбы. Но как вернуть оторванный шведами кусок русской земли в лоно Московского государства, если Стокгольм на правах победителя диктовал невыносимые условия мира? Но и здесь Бог указал выход, послав царю предложения о посредничестве сразу трех государств: Дании, Нидерландов и Англии.
Датский посол, прибывший в Москву первым, советовал ни в чем не уступать, и шведы со временем откажутся от всех своих притязаний: Копенгаген брал на себя ведение переговоров. Предложение, что и говорить, выглядело заманчивым, но боярам пришлось отклонить датскую помощь. Королю Христиану выгоднее было сорвать мирное соглашение и вновь столкнуть Швецию и Россию лбами. Дании нужна была война на востоке, чтобы ощипать свою скандинавскую соседку с наименьшими потерями. Куда серьезнее выглядели предложения нидерландских Генеральных штатов и Англии. Эти купеческие нации хотели видеть и в Швеции, и в России мир, способствовавший их торговле. Голландцы держали сторону Швеции, главного поставщика меди на европейские рынки, а при английском дворе сильнее было русское лобби в лице могущественной Московской компании, еще со времен Ивана Грозного имевшей привилегии на торговлю с Россией.
В декабре 1614 года в Москве вместе с возвратившимся из Лондона русским посольством появился английский посол Джон Меррик, вручивший царю грамоту государя. Прежде всего английский король просил «брата» «вперед держати всякие те вольности, которые были преж сего у наших подданных в ваших государствах», а уже потом предлагал посредничество в заключении мира со Швецией. Интерес англичан был понятным и справедливым, а личность самого Джона Меррика вызывала у обычно подозрительных к иностранцам бояр исключительное доверие: этот почти свой, русский. Этот не продаст.
Джон Меррик почти тридцать лет провел в России, поднявшись за это время от простого агента Московской компании до главы ее представительства в России. Он давно обрусел, превосходно говорил по-русски и для удобства ведения дел даже просил называть его Иваном Ульяновичем. Так его и именовали в Московии, в том числе и в официальных документах, иногда прибавляя к его русскому имени для значимости княжеский титул.
Плохо только, что Меррик уж слишком отталкивал Голландию от участия в переговорах, всячески очерняя ее в глазах бояр и предлагая вообще не вести с ней дел — ни политических, ни торговых. Бояре понимали, что у англичанина был свой интерес: Лондон хотел избавиться от опасных конкурентов в России. В думе посовещались и решили принять посредничество и Англии, и Голландии. Пусть конкуренты приглядывают друг за другом да за русскую выгодную дружбу бьются. Нельзя англичан в России одних оставлять.
В начале 1615 года по дорогам между Москвой и Новгородом поскакали гонцы, пряча под одеждой от людских взглядов сумки с письмами и инструкциями. Прежде чем посредники могли начать свою работу, предстояло договориться не только о титулах шведского и русского государей, но и о том, как называть их верных слуг, которым доверили вести важное дело. И упаси Боже даже такой мелкой сошке, как гонцу, сделать неверный шаг, нарушив писаные и неписаные правила этикета!
Защита чести своего государя начиналась с мелочей. Важно было не только знать, когда слезать с коня (представителям двух переговаривающихся сторон следовало спешиваться одновременно) и при произнесении каких ритуальных фраз снимать шляпу, но и как осуществлять свои мелкие физиологические потребности, если приспичило. Например, если дипломат захотел плюнуть в присутствии высокого представителя зарубежного государства, не говоря уже о самом государе, надлежало немедленно наступить на плевок ногой. Забылся — оскорбил иностранную державу и сорвал важную миссию!
Поэтому не будем удивляться, что первые робкие мирные контакты Швеции и России привели к конфликту. Думские бояре были вне себя от возмущения. Шведский гонец доставил в Москву письмо от фельдмаршала Эверта Горна, в котором тот посмел величать себя на русский манер, с «вичем», точно он был боярин: Эверт Карлусович Горн. Наглеца отчитали, помянув ему, что прежде никогда шведы не называли себя в общении с русскими полным именем, с отчеством, как бы высоко они ни стояли у себя в земле. Да и сам фельдмаршал прежде именовал себя просто Эвертом Горном.
Упрямый швед на умаление своего достоинства ответил той же монетой, оскорбив первого думного боярина Федора Мстиславского и его товарищей тем, что «забыл» назвать их по отчеству. Свое внезапное «обрусение» он объяснял тем, что шведы прежде не знали, как важно для русских написание имен значимых особ с отчеством, а теперь эта тайна раскрыта, и он, Эверт Горн, как человек высокого происхождения, не намерен поступаться своим достоинством: «А что мы с своей стороны себя „вичи“ описывали, которые вы нам в гордость почитаете, и то с вашего обычая учинено, потому что мы для лутчего выразуменя к вам, по вашему русскому языку и обычаю писали, занеж уразумехом, что вы добрых переводчиков не имате, також что та почестная титла у вас меж господина и раба большая есть, ни выше, ни ниже тое почестная титлы в вашем языке не имате. И сего ради мы найначе, особно ж в посолских делех, которые нам ныне приказаны, возхотехом в вашем языке тако описыватис, яко наши предки не писывалис, потому что оне с вами столке не зналися, как мы уже с вами посямест водимся, но иные титлы, которые не токьмо стол высоки но и выше того у нас имянуютца по нашему языку, в то место имели, якож и по се время всякому по его достоинству чину писатися поволено. Сего ради вам не для чего такие напрасные и плодовитые споры о своем величестве в таких делах чинити, но болши бы об отчизны своей ползы со усердием пецыся».
Стороны обменивались тычками и чванились, упрекая друг друга в бескультурье и неуважении к чужому государю и его верным слугам. Тон посланий мог создать впечатление у робкого человека, что еще чуть-чуть — и грянет война. Но дипломаты были людьми с крепкими нервами и, оскорбляя друг друга, прекрасно понимали, что грубые слова, точно гать на болоте, устилают дорогу к миру, помогая сторонам сближаться без потери достоинства. Если во время предыдущих мирных переговоров в 1594 году, закончившихся Тявзинским миром, шведские комиссары ужасались, что их русские партнеры использовали «такие слова, что и подумать немыслимо, что все это приведет к перемирию или миру», то с тех пор шведская дипломатия успела закалиться. Они на вас орут, а вы еще пуще дерите глотку и грубите, инструктировал своих комиссаров Густав Адольф. Молодой человек был прирожденным полководцем и рассматривал переговоры как разновидность сражения. Если враг ударил из пушек, для победы нужно ответить двойным залпом!
Дело действительно пошло. 15 июня 1615 года в Новгород прибыл английский посредник в сопровождении пятидесяти московитов. Джон Меррик объявил, что ему поручено добиваться соглашения о перемирии, за время которого страсти улягутся и легче будет говорить о мире. Но эта уловка не устраивала шведов, понимавших ход мысли лукавых московитов: русская держава, получив передышку, окрепнет, а там, глядишь, на Швецию вновь обрушатся датчане или поляки. Тогда уже Москва сможет диктовать свои условия поставленному на колени противнику. Горн отверг предложение посредника: король хочет вести переговоры о мире. Иначе война.
Меррик из Новгорода отправился в Нарву, на встречу с Густавом Адольфом, где изложил ему условия великого князя: мир возможен только в том случае, если шведы уйдут из всех захваченных областей и выплатят компенсацию за нанесенный ущерб. В протокольных вопросах русские также проявляли поразительную дерзость, возмутившую короля. Эти шельмы, как их именовали при королевском дворе, требовали, чтобы шведы первыми назвали их великого князя — «казачьего царя», вознесенного на престол толпой разбойников, — полным титулом! А уже потом они соблаговолят почтить полным титулом Густава Адольфа. Изворотливый Меррик хотел убедить шведов, что разделяет их возмущение: русские, мол, не привыкли прислушиваться к голосу разума и принимать рациональные решения, а следуют своим собственным представлениям, не имеющим ничего общего с реальностью. А потому, неожиданно заключил английский посредник, нужно к ним приспосабливаться, если хочешь чего-то достичь. Король с трудом сдерживал ярость. Хитрая английская лиса играла краплеными картами, полностью принимая сторону русских! Чего еще ожидать от человека, составившего себе имя и состояние на близких отношениях с московитами?
Что ж, настало время подтолкнуть великого князя к миру иным способом. У шведов были в запасе последние аргументы — пушечные ядра. «Все, чего можно отныне достигнуть, сделать можно лишь острием меча», — писал Густав Адольф Делагарди.
В начале июля 1615 года король с семитысячным отрядом высадился в Нарве и двинулся оттуда к Пскову. Этот город, расположенный в окружении оккупированных шведами территорий, был для них как больной зуб, от которого раскалывалась вся голова. Пока стоял Псков, нельзя было рассчитывать на повиновение всего русского северо-запада.
Густав Адольф понимал, что мощная Псковская крепость — это не маленький Гдов, который так легко пал под ударами осадной артиллерии. О стены Пскова в августе 1581 года разбилось наступление стотысячной армии выдающегося полководца, польского короля Стефана Батория, потерявшего за время осады более пяти тысяч солдат. «Любуемся Псковом! Боже, какой красивый город, точно Париж! Помоги нам, Господи, с ним справиться!» — эта запись в дневнике похода Стефана Батория так и осталась нереализованным пожеланием. Так же, как 36 лет назад, «Русский Париж» сиял летом 1615 года позолоченными и посеребренными маковками пяти десятков церквей и монастырей из-за валов и стен, дразня честолюбие шведского короля и разжигая алчность голодранцев со всей Европы, навербованных сражаться под шведскими знаменами. Впрочем, в шведском лагере среди палаток вздымались и русские хоругви: Новгород, верный присяге Карлу Филиппу, прислал в помощь своему покровителю, шведскому королю, большой отряд дворянского ополчения. К началу осады 30 июля в распоряжении Густава Адольфа было 13 знамен конницы — более двух тысяч рейтар, — сорок рот пехоты в составе шести тысяч человек и двести артиллеристов.
Сражение за Псков началось для шведов неудачно. Фельдмаршал Эверт Горн, на которого было возложено практическое руководство осадой, решил показать солдатам пример доблести. Он пренебрег советами приближенных остаться в лагере или, по крайней мере, одеться поскромнее и выехал на рекогносцировку под стены крепости в роскошном сияющем панцире, издалека выдававшем его высокое положение. Из ворот навстречу неприятелю вылетела русская конница, завязалась быстротечная схватка, и цель вылазки была достигнута: щеголь в дорогих доспехах был смертельно ранен. «Пострелен в главу из пищали», — лаконично сообщает о причине гибели фельдмаршала русская хроника.
План осады, предложенный Горном, пришлось осуществлять его подчиненным. Шведская армия, не рискуя идти на немедленный штурм, стала зарываться в землю. К концу августа Псков был охвачен кольцом временных укреплений. Шведы поставили шесть деревянных городков, не считая рвов, туров и плетней, прочно защищавших их позиции. Через реку Великую навели два моста, облегчавших передвижения войск. В пяти километрах севернее Пскова, на Снетной горе, возле развалин монастыря, расположилась королевская ставка, в центре которой был возведен деревянный дворец с большим тронным залом. Королевский проповедник Рудбек писал из Пскова, что район монастыря хорошо укреплен самой природой, почти полностью обтекаем водой, а с остающейся сухопутной стороны прикрыт рвом и стеной.
Инженеры сообщали, что взять город, взорвав стены минами, заложенными в подведенных тоннелях, практически невозможно из-за каменистой почвы. Оставалось положиться на пушки. В районе Гдовской дороги, между Ильинскими и Варлаамовскими воротами была установлена мощная двадцатиорудийная батарея — именно здесь шведы рассчитывали обрушить стены и ворваться в город.
Конечно, нельзя было исключать и того, что крепость удастся взять измором. Вся местность вокруг Пскова была предусмотрительно опустошена еще с весны — шведы запретили крестьянам сеять в радиусе ста километров от города, а подвоз припасов из дальних областей надежно блокировался заставами. Кто знает, может, русские, как это случилось при осаде Новгорода, перессорятся между собой и лучшие люди, уставшие от казачьего и стрелецкого террора последних лет, убедят оголодавшую чернь открыть ворота милостивому шведскому королю?
Но в 1615 году время раздоров среди русских уже прошло. Царь, пусть и выбранный сомнительно, и слишком юный, и не первой среди боярства фамилии, объединил разорванные Смутой слои общества. В Пскове верили, что Москва не даст их в обиду. Четыре тысячи казаков и стрельцов, составлявших гарнизон крепости, как гласит летопись, «меж себя крест целовали, что битца до смерти, а города не сдать… Из города к королю переметчиков никоим образом не было».
Дух осажденных укрепился присланной из Москвы грамотой о скором подходе войска, которое доставит хлебные запасы. В царском наказе говорилось: «Послать в Псков, сообщить, что боярин и воевода Федор Иванович Шереметев с товарищи и со многими людьми и с нарядом пришли в Торопец, а из Торопца идут ко Пскову на Немецких людей наспех, и они б, прося у Бога милости, во Пскове сидели крепко и надежно безо всякия боязни и с Немецкими людьми билися, сколько Бог помочи даст».
Крепкая государева рука чувствовалась и в строках наказа войску, призывавших к забытой за годы Смуты дисциплине: «Да и того велеть беречь накрепко, чтоб атаманы и казаки и всякие ратные люди в полках, и отъезжая, по дорогам и по селам и по деревням никого не били и не грабили, и насильства никакого не делали, и зернью не играли, и корчем и блядни не держали; а кто кого учнет грабить, или зернью играть и блядню держать, и тех велеть бить батоги и давать на крепкие поруки, что им впредь не воровать; а кто от того не уймется, и тех за воровство бить нещадно. Да о том заказ крепкий учинить, чтобы без ведома из станов и на походе из полков атаманы и казаки и стрельцы не разъезжались никуды; а кому куды для какого дела лучится ехать, и они б ездили, являяся им боярину и воеводе Федору Ивановичу с товарищи».
При обещании такой помощи — не толпами разбойников, которые хуже шведов, а крепким войском, повинующимся начальникам, — можно было держаться! Хотя отряды воеводы Шереметева так и не смогли пробиться к осажденным, застряв в стычках со шведами, эта протянутая из Москвы рука помощи поддержала дух псковских защитников в первые недели осады.
Почти полтора месяца шведы с трех сторон обстреливали город калеными и чугунными ядрами, используя привезенную из Нарвы мощную осадную артиллерию. В стенах возникли бреши, пылали подожженные дома, но Псков держался. Русские производили вылазки, во время одной из которых даже сумели на короткое время захватить позицию шведской батареи. Критический день наступил 17 сентября, когда после особенно яростной бомбардировки шведские штурмовые колонны пошли в проломы, сделанные в стене напротив 20-пушечной батареи. Наемникам удалось захватить Наугольную башню, но на этом их наступательный порыв иссяк. Вскоре казаки выбили шведов из крепости. Проломы заделали бревнами и землей. Московиты не желали покориться королевской воле.
9 октября — после трехдневной бомбардировки — новый штурм. Основной удар опять пришелся в районе Варлаамовских ворот, по которым швыряла ядра из-за Великой главная шведская батарея. Вновь шведы взошли на Наугольную башню, но защитники города сумели взорвать ее вместе с засевшим там неприятелем. Провалилась и попытка проникнуть в крепость по воде. Солдаты Генриксона переплыли на плотах Великую и, выломав железные решетки, закрывавшие устье речки Псковы, вошли в город. Через несколько часов они бежали под ударами русских.
Король, наблюдая за атаками с вершины Снетной горы, вероятно, вспоминал предупреждения своих опытных советников, отговаривавших его от личного участия в русской кампании: поражение обернется невосполнимой потерей престижа. Через два дня Густав Адольф назначил новый штурм. Но кажется, сама судьба мешала монарху торжественно въехать в «Русский Париж», затянутый дымом пожаров.
Внезапно по шведскому лагерю прокатился ужасающий грохот, в небо взметнулся столб пламени. Это разорвало от выстрела одну из пушек, огонь попал в пороховой погреб, и батареи не стало. Шведы лишились главного тарана, с помощью которого они методично разрушали город.
Голландские посланники, прибывшие в шведский лагерь для консультаций с королем о заключении мира, стали свидетелями последней отчаянной попытки Густава Адольфа овладеть Псковом. Вот запись из дневника посольства от 19 октября: «Никто не встречал. Его величество в это время нападал на город с той стороны, где часть каменной стены была пробита пушками, и отряд его войска стал пробираться на стену, но шведы должны были отступить, потеряв около 20 убитых и 30 раненых. Город Псков весьма велик и многолюден, и в него спаслось много жителей из окрестностей. Русские сверх того умеют лучше защищаться, чем осаждать города или сражаться в открытом поле. К тому же осадное войско короля было весьма обессилено смертями и болезнями, так что осталось здоровых не более трети того войска, которое было собрано при начале осады, что было известно и осажденным; поэтому-то они и защищались бодрее, несмотря на то, что голод начинал теснить их».
Наемников охватило уныние. Это была не та война, которую им обещали красноречивые вербовщики в европейских кабаках. Последний нищий в Гааге или Эдинбурге жил лучше, чем солдаты Густава Адольфа! Опустошенная местность не давала пищи, а на пути подвоза припасов из Швеции встала штормовая Балтика. Октябрь 1615 года выдался по-зимнему холодным, исхлестанные пронзительными ветрами палатки шведского лагеря днем заливало дождями, а к утру полотно покрывалось ледяной коркой. Каждый день в этих убогих жилищах становилось все просторнее; одни умирали, другие, отчаявшись получить обещанную плату, перебегали к русским.
Было много обмороженных, но известный способ лечения — намазывание пораженных мест мозгами убитой вороны — использовать было нельзя: голодные солдаты съели всех пернатых и привычного на поле боя карканья этих вестниц смерти уже давно не раздавалось. Чумные по предписанию лекарей скорбно пили собственную мочу, но старуха с косой лишь ехидно усмехалась по поводу этих жалких попыток сбежать от нее. Основатель шведской военно-полевой медицины доктор Юхан Копп предписывал еще в 1566 году лечить заразные болезни солдат голоданием, объясняя в своем ученом трактате этот метод следующим образом: «Излишние пища и питье не могут хорошо усвоиться и превращаются в злые и вредные жидкости, приводящие к ужасным лихорадкам, болям в желудке, груди, голове и другим мучительным заболеваниям».
Но как можно было следовать столь мудрому предписанию, если солдаты и без того превратились в ходячие скелеты? Оставалось лечить больных единственным доступным в тех условиях способом — кровопусканием. Рекомендация классика была проста: где болит, там и вскрывать сосуд. Солдатская кровь лилась при штурмах Пскова, а ее остатками поливали русскую землю брадобреи, совмещавшие обязанности хирургов.
Из лагеря доносились стоны больных и умирающих. Густав Адольф начинал понимать, что осада провалилась. Единственным приятным моментом в походе на Псков стала встреча с Маргаретой Слоте, прелестной юной женой голландского офицера, сутками пропадавшего на позициях. Атака на эту крепость пошла куда успешнее, чем попытки овладеть Псковом. Вскоре голландка выкинула белый флаг, и с тех пор в грохот канонады вплетались звуки любовной страсти, доносившиеся из королевской спальни в тереме на Снетной горе. Вскоре муж-рогоносец погиб, и это была, пожалуй, единственная смерть, по поводу которой у короля не было особенных причин огорчаться.
Густав Адольф успешно лечился в объятиях голландки от тоски по своей далекой возлюбленной Эббе Брахе. Вскоре боевая подруга короля забеременела и в мае 1616 года произвела на свет мальчика, названного в честь отца Густавом Густавссоном и возведенного в графское достоинство.
Неизвестно, сколько еще графов могла бы получить Швеция в результате псковской осады, если бы она затянулась. Но 17 октября, после неудачи третьего штурма, король приказал грузить пушки на суда и сворачивать лагерь. Было объявлено, что этим поступком Густав Адольф протягивает великому князю руку дружбы, надеясь на заключение справедливого и быстрого мира.
Дипломатам приходилось начинать все сначала, вырывая у русских победы, упущенные военными. Перед голландским посольством во главе с Рейнгоутом ван Бредероде, предложившим Густаву Адольфу свои посреднические услуги, была поставлена почти невыполнимая задача. Король, несмотря на псковскую неудачу, вел себя как победитель, объявив посредникам свои условия: Швеция заключит мир, если великий князь выплатит ей контрибуцию в размере семи миллионов риксдалеров (70 бочек золота) и откажется от всех приморских крепостей. Канцлер Оксеншерна после аудиенции пояснил голландцам мысль короля: территориальные уступки должны быть таковы, чтобы Московия оказалась полностью отрезана от Балтики.
К середине ноября завернули такие холода, что установилась крепкая зимняя дорога, по которой лошади резво тащили сани послов, нагруженные припасами, подаренными шведским королем. Глушь, ужас. Мрачные хвойные леса тянулись по обе стороны дороги, которая, казалось, вела на край света. Только бы на скрип полозьев и стук копыт по твердому насту не вылетели из леса волки, только бы не устроили засаду разбойники! Путь пролегал по опустошенному войной краю, обезлюдевшему и одичавшему. Шведские комиссары, встретившие голландцев 19 ноября на льду замерзшего озера, рассказывали страшные истории. Шиши, которыми кишели здешние леса, только что поймали двух шведских рейтар, обезглавили их, а затем, куражась, велели их слугам бросить жребий, кто из них будет рубить голову другому. Полубезумного счастливца, отправившего на тот свет приятеля, разбойники отпустили восвояси — чтобы сеял в округе ужас своим рассказом.
Шведские уполномоченные определили голландцам место для ночлега, это были семь или восемь опустевших изб, все, что осталось от большой сожженной деревни. В одной нашли человеческий скелет. Дома окружили палисадами, шведы выставили на ночь охрану из трех десятков солдат. Голландцы заснули под вой волков, бродивших под самыми стенами.
Несколько дней жили в неизвестности, но вот лед тронулся. Посланный английского посредника Меррика привез оскорбительное письмо от русских уполномоченных. Тем не менее те подтверждали свою готовность к съезду. Долго выбирали место встречи: русские требовали, чтобы переговоры состоялись в двадцати километрах в глубине их территории, шведы и голландцы не хотели двигаться с места. Наконец Меррик достиг компромисса: съезд будет в деревне Дидерино. Третьего декабря наконец и сам англичанин почтил голландцев своим появлением, объяснив, что раньше не мог приехать из-за плохой погоды. Однако на самом деле он всячески оттягивал встречу, надеясь, что голландцы отправятся восвояси, не выдержав пребывания в неизвестности в русской глуши. Ему донесли, что Густав Адольф снял осаду Пскова под давлением нидерландского посольства, — этот подвиг мог быть вознагражден получением голландскими купцами льгот в России, и Меррик с трудом сдерживал злость. Но сотрудничать со злейшими торговыми конкурентами Англии все же пришлось, поскольку 28 ноября пришло письмо от великого князя, в котором он подтвердил полномочия голландцев.
Англичанину, несмотря на его интриги и ревность, нельзя было отказать в ловкости. Он преодолел главное формальное препятствие, мешавшее сторонам приступить к разговору по существу: вопрос о титулах обоих монархов. Великий князь упорно включал в свой титул наименование «Лифляндский», и пропустить это значило, что шведы соглашаются с русскими притязаниями на Лифляндию. Кроме того, в пышном перечне царств и княжеств, над которыми властвовал великий князь, появилась формулировка «и иных многих государств Наследный Государь и Обладатель», которую русские прежде не использовали в общении со шведами. Здесь чудился подвох, который мог иметь самые непредсказуемые последствия. Ведь земли, на «обладание» которыми претендовал русский самодержец, названы не были. Но Меррик разрубил гордиев узел, уговорив стороны использовать сокращенные титулы обоих монархов, чтобы никому не было обидно. Глава русской делегации князь Данило Иванович Мезецкий принял предложение, пообещав, что лишь однажды, в самом начале переговоров, назовет своего властителя полным титулом, включая «Лифляндский», а затем ни разу не произнесет этого слова.
Как только утрясли дело с монархами, поднялся на дыбы один из шведских комиссаров, Якоб Делагарди, ставший в марте 1615 года графом. С тех пор главнокомандующий не уставал наслаждаться волшебной музыкой, которой для него звучало словосочетание «граф Делагарди». И вот русские упустили в одном из своих писем его новый титул, но при этом не забыли назвать князем партнера по переговорам, Данилу Мезецкого. Мало того, у них хватило нахальства объяснить, что бесчестье нанесено сознательно! Данило Иванович Мезецкий, мол, относится к старому княжескому роду, а Якоб Делагарди — граф молодой, только что испеченный, и эту разницу в их достоинстве можно подчеркнуть лишь одним способом — упустив титул Делагарди, если рядом стоит высокое имя Мезецкого.
Посредники скандал замяли, и Делагарди отстоял свое право именоваться графом. На пирах у Мезецкого, за кубками с испанским и хлебным винами, медами и пивом, князь и граф примирились, общаясь между собой без переводчика: Делагарди за годы в России научился вполне сносно объясняться по-русски. Однако без ссор не обходилось: слишком много взаимных обид накопилось у бывших союзников. Разгоряченные вином, шведы и русские хвалились своими заслугами в борьбе с поляками и тушинцами, не желая и слушать о чужих подвигах. В этом пьяном тщеславии был, однако, и государственный умысел: когда идет большая торговля о крепостях и золоте, не время воздавать должное недавнему другу.
Часто русские сводили разговор на злосчастную битву при Клушине, обвиняя шведов в предательстве и намекая на постыдную роль Делагарди в измене наемников. Мол, выдал царь казну сполна для расплаты с солдатами, куда она делась?
Да как смеют русские упрекать его в воровстве, если они сами поступили как последние разбойники, ограбив его донага! Неужели они забыли историю с захваченным обозом Меншика Боранова? Кроме того, царь Василий недоплатил ему обещанное, вот у него есть на то и грамота. «А ты преступил крестное целование царю Василию! — отвечали уполномоченные великого князя. — Только вси твои неправды станем теперь вычитати, и тебе будет досадно». Делагарди едва сдерживался, чтобы не оборвать тонкую нить переговоров, изливая желчь по поводу «этого варварского народа» в письмах другу Оксеншерне.
Настроение шведских дипломатов портилось и из-за все более отчетливой перспективы просидеть в этом диком опустошенном краю долгие месяцы. Под любым предлогом, только бы уехать отсюда! Один из комиссаров, Арвид Тоннессон, молил Делагарди просить короля отправить его домой, он стар и слаб, другой, Монс Мортенссон, жаловался, что почти ослеп и не может писать тексты трактатов. Их можно было понять. Монархи — и русский и шведский — не желали уступать в своих требованиях, а шведы взяли с собой продуктов всего на три недели, рассчитывая завершить в этот срок все дело. Как наивны они были!
Уязвленное самолюбие посланцев Густава Адольфа усиливало их желание покинуть переговоры. Каждая новая встреча сторон заставляла шведов краснеть от стыда. Как изобилен был русский стол, как пышно одеты московиты — от послов до стрельцов охраны, и насколько бедно выглядели подданные Густава Адольфа! К марту 1616 года позор стал настолько нестерпимым, что Делагарди решился обратиться за помощью к королю. Он просил прислать из Финляндии вина и провианта, а для солдат, обеспечивающих переговоры, — приличную одежду, чтобы не испытывать стыда, как это было на предыдущих встречах. Шведские комиссары из-за бедности не могут отвечать русским такими же пирами и фактически стоят у них на довольствии, а солдаты выглядят настоящими оборванцами, русские обзывают их «попрошайками и вымогателями».
Наемники, охранявшие шведских послов, по одному и группами перебегали к русским, а однажды дошли в своем отчаянии до последней низости, украв платье одного из шведских представителей и сбежав с этой добычей к московитам.
Хотя голландцам и шведским комиссарам удалось снизить первоначальные требования короля к русским с 70 до 40 бочек золота, даже такой выкуп за крепости был, на взгляд здравомыслящего Делагарди, непомерно высоким. И конечно же, он опасался, что у представителей великого князя, при виде нищеты посольства, может сложиться превратное мнение о шведской силе. Они уже угрожали, если король не пойдет на уступки, заключить соглашение с поляками.
Однако король не отказывался от своего желания выжать из русских максимум возможного, поддержанный в этом своим канцлером. Еще в ноябре 1615 года канцлер Оксеншерна отправил меморандум шведским представителям, в котором писал: «Безо всякого сомнения, русские — фальшивые и могущественные соседи, которые с молоком матери впитали обман и мошенничество, не позволяющие им доверять. Из-за своей силы они внушают ужас не только нам, но и многим своим соседям. Сейчас русские вот-вот сломаются, поскольку самые большие и лучшие их земли находятся либо в руках врага, либо опустошены и пребывают в упадке. Кроме того, их лучшие силы разбиты и у них осталась лишь толпа лесных бродяг. У нас же сейчас есть сила, наше положение несколько улучшилось, поэтому было бы непростительной глупостью выпустить русских и помочь им встать на ноги, предварительно хорошенько не ощипав их. Если мы сейчас пойдем у них на поводу, потом наступит глубокое раскаяние, от которого уже не избавиться».
Канцлер не принимал всерьез возможность заключения русско-польского соглашения, аргументируя свое мнение следующим образом: «Те условия мира, что Швеция предложила русским, им будет все же легче принять, чем польские. По моему скромному разумению, мир с поляками будет для русских более затруднительным, поскольку польская корона никогда добровольно не уступит Смоленска и, возможно, других земель, находящихся у нее. Из-за близости этих мест к Москве русским будет тяжелее согласиться на их потерю, чем на наши требования».
Обе стороны пытались выяснить содержание тайных инструкций, имеющихся у противника, прибегая к традиционному способу добывания ценной информации — подкупу. Агентом русских в шведском лагере стал переводчик Арн Брук, или Анцы Брякилев, как его называли русские. Этот толмач был так силен выпить, что выделялся даже в те времена невиданного разгула пьянства — из-за запоев Брякилева не раз приходилось переносить встречи, — на этой его слабости и сыграли русские. Брякилева завербовал новгородский дворянин Яков Боборыкин, бывший некогда одним из самых горячих сторонников избрания на русский престол принца Карла Филиппа. Когда этот план провалился и на место младшего брата в качестве новгородского повелителя стал претендовать король Густав Адольф, Боборыкин стал тайным шведским ненавистником. Вернувшись из Москвы домой, где он был в составе новгородского посольства, Боборыкин развернул среди горожан агитацию против присяги Густаву Адольфу. Непокорного дворянина едва не заколол шпагой фельдмаршал Эверт Горн, но после заступничества митрополита и новгородского воеводы Одоевского ограничился высылкой Боборыкина и еще двух бунтовщиков в Выборг. Там Боборыкина кинули в земляную яму, а после взятия Густавом Адольфом Гдова привезли показать королю. О том, как шел разговор новгородца со шведским монархом, можно догадаться, поскольку король распорядился тайно казнить Боборыкина, посадив его на кол. И снова в последний момент пришло спасение. О предстоящей казни случайно узнал посетивший короля английский посредник Джон Меррик и убедил его проявить милосердие. Боборыкина сослали на жительство в Ивангород, где его и встретил после долгой разлуки старый приятель Якоб Делагарди. Решив, что ссыльный может пригодиться на переговорах с русскими, Делагарди взял Боборыкина с собой в Дидерино. Как вскоре выяснилось, это было не самое мудрое кадровое решение графа. Боборыкин приложил все силы, чтобы выведать шведские планы, используя для этого пьяницу-толмача. «Списывал списки с немецкого письма, на чем быти договор на посольстве», — гласит летопись. По ночам Боборыкин тайно приезжал к русским уполномоченным, передавая им добытые сведения. Более всего князя Данилу Мезецкого интересовал подлинник грамоты о передаче Шуйским крепости Корелы с уездом. Ходили слухи, что документ шведы подделали. Царь Василий Шуйский якобы грамоту не утвердил, и изначально там были лишь печать и подпись его племянника Михаила Скопина-Шуйского. Если это удастся доказать, претензии шведов на Корелу можно объявить недействительными: мало ли что неразумный юноша натворил вдали от дядюшкиной мудрой опеки! Но даже если грамоту заверил сам царь, шведам еще предстоит доказать факт ее существования. Боборыкин получил приказ выкрасть этот документ.
Шпионская эпопея почти четырехсотлетней давности завершилась так же, как это часто происходит в наши дни. В русском лагере оказался «крот», «жилец Михалко Клементьев», перебежавший к шведам и выдавший Боборыкина. Агенту, однако, удалось избежать расправы. Его вовремя предупредил другой русский приближенный Якоба Делагарди — Угрим Лупадин. Боборыкин бежал. Поплатиться за подвиги русского агента пришлось его семье. Мать, трех братьев и трех сестер Боборыкина сослали в Швецию, реквизировав в пользу короны все их имущество и людей.
В конце февраля 1616 года Дидерино покинули голландские посредники, с трудом выдерживавшие грубые наскоки на них Меррика. Впрочем, они считали, что главного добились. Шестого декабря 1615 года при их помощи было заключено трехмесячное перемирие, впоследствии несколько раз продлевавшееся, а русским были предъявлены шведские требования: 40 бочек золота отступного за возвращение крепостей внутреннего пояса русской обороны на северо-западе или расплата полосой земли между Невой и Ладогой с крепостями в этом районе.
Русские также выставили свои условия, объявив о готовности выплатить 30 тысяч рублей за возврат всех крепостей и территорий, кроме Кексгольма: это было в двадцать раз меньше, чем запрашивал король. Крайние позиции определились, оставалось искать компромисса.
Домой голландское посольство возвращалось через Новгород, оставив в своем дневнике описание ужасных бедствий в этом некогда богатейшем городе: «Во время нашего пребывания в Новгороде мы ежедневно выходили из кремля в город и были свидетелями большой нужды и бедствий, царящих там. Здесь и там на улицах видели мы бедных людей, умиравших от голода и холода. По утрам их без всяких церемоний свозили на санях в специальное помещение, где застывшие трупы громоздили друг на друга, как бочки. Один или два раза в неделю трупы вывозили за город, где зарывали их в больших и глубоких ямах. В две самых больших в эту зиму набросали больше 18 000 человек, которые были жертвами ужасного холода, голода и других бедствий. Бедняги, которые еще живы, волочатся по улицам до тех пор, пока их держат ноги, и мы видели мужа, жену и их ребенка, которые поддерживали друг друга под руки. Они почти не имели одежды и выглядели как почерневшие от голода кожа и кости. Они стонали так жалобно, что даже жестокосердечные люди не могли не дать им милостыни. Когда они падают на землю от слабости, то ползут, пока могут, между домами в грязи, чтобы умереть в нужде без помощи и утешения».
Город, из которого шведы, казалось, уже выскребли все до последнего, тем не менее подвергался новым чисткам. Гарнизону было нечем платить, и шведский комендант Ханс Бойе, старик, страдавший сильными эпилептическими припадками, получил приказ выдавать солдатам жалованье натурой, чем только можно. В кремль волокли колокола, медную и деревянную посуду, бруски железа. Солдаты ломали каменные церкви и монастыри, добывая кирпич для его последующей отправки на продажу в Швецию. 100 кирпичей в 1615–1617 годах стоили в среднем 20 копеек, пять дневных заработков ремесленника. Конечно, русские кирпичи — это не обещанные серебряные далеры, но на войне — как на войне. Там, где стену не брала кирка, наводилась пушка.
В городе-призраке стоял грохот, точно он все еще сопротивлялся вторжению.
Последней ценностью, до сих пор не вывезенной шведами, были великолепные бронзовые врата с литыми изображениями на библейские темы, украшавшие главный вход в Софийский собор. В 1614 году в только что захваченном Новгороде побывал шведский историк Мартин Ашанеус, которому его 120-летняя бабушка рассказала перед смертью, будто в 1187 году новгородцы захватили в Сигтуне прекрасные медные ворота. Мартин Ашанеус, изучив главную достопримечательность Софийского собора, пришел к выводу, что это и есть те самые знаменитые Сигтунские ворота. Новость об открытии стала известна королю, и весной 1616 года Густав Адольф распорядился вывезти врата в Швецию.
Спас реликвию для новгородцев Делагарди. В письме Его Величеству он сообщил, что сами русские отрицают их шведское происхождение, уверяя, что в давние времена врата куплены в Греции. В любом случае снятие их сейчас чревато народным возмущением, поскольку через них входит в храм митрополит. К тому же русским уполномоченным на переговорах обещано не трогать их святыни. Другое дело, если договор не состоится. Тогда Новгород можно разграбить подчистую: «Мы должны будем взять больше, чем одну эту дверь, которая хотя и красива, но не слишком дорога».
Эти врата до сих пор украшают Софийский собор. История их появления в Новгороде стерлась временем. Известно лишь, что их изготовили в Магдебурге в 1152–1154 годах по заказу полоцкого епископа Александра для местного кафедрального собора.
Мирные переговоры, прервавшиеся в конце февраля 1616 года, возобновились лишь 31 декабря в деревне Столбово на реке Сясь, в пятидесяти километрах от ее впадения в Ладогу. На новом месте встреч настояли шведы, поскольку сюда им было удобнее подвозить припасы для послов и их свиты.
Предыдущие весну и лето противники собирали войска, готовясь отстаивать свои требования силой. В то же время продолжался заочный торг при посредничестве Джона Меррика. Все было как на рынке, когда и продавец, и покупатель одинаково упорны, только разменной монетой в данном случае служили земли, крепости и бочки с золотом.
И вот наконец послы, сопровождаемые полутысячными свитами, вновь съехались для обсуждения мирного соглашения. Русские были мрачны, поскольку шведы обошли их в том, что те называли «тщеславными церемониями», прибыв в Столбово последними. Это была неслыханная обида, поскольку соревнование обычно шло на секунды: у русских дипломатов считалось доблестью замешкаться при спешивании с коней при встрече с зарубежными представителями или первыми надеть головные уборы, когда произнесены все титулы иностранного государя. Эти маленькие победы расценивались как дополнительный способ возвышения своего самодержца.
Обеим сторонам предстояло выдержать еще одно важное протокольное испытание: одновременно войти в залу для переговоров. Но как это сделать в крестьянской избе с единственной узкой дверью, где лежал еще не оправившийся от плеврита английский посредник? Меррик нашел выход из положения, распорядившись прорубить в доме вторую дверь. Слуги распахнули двери, англичанин дал сигнал, и обе делегации вступили в помещение — каждая через собственный вход.
Тяжкая торговля началась снова, точно не было многих съездов в Дидерине. Русские хотели получить все свои земли назад сразу, ничего не оставляя в залог, а платить за это собирались сущую малость. «Поверьте душам нашим, что договорим и укрепим, то государь все по нашему закреплению сделает и закрепит, а деньги или иную казну за городы емлите, а городы государевы очистите и отдайте все», — упорно твердили посланные великого князя, призывая своих партнеров к пониманию ситуации. Конечно, и датчане оставляли в заклад шведские города, но у этих двух народов одна вера и один язык, а православные жители закладных городов начнут на себя руки накладывать.
От предложенных русскими 20 тысяч рублей за города шведы с презрением отказались, заявив, что такие деньги шведский король тратит за один вечер. Московиты на это отвечали следующим образом: «А что говорите: столько денег выдеть у короля вашего на пиру в один вечер, — как король ваш захочет, так и делает, только чаем, того несостоитца, что по дватцать тысяч на пирех выводити на всякий день: скоро так государю вашему и все свое государство пропировать». Но шведы в обиду своего монарха не дали и возражали с не меньшей язвительностью.
Диалог шел в том же духе, что и два десятка лет назад, при заключении Тявзинского мира, когда кексгольмский воевода Ларс Торстенссон срезал русских неприятным для них сравнением, заявив, что шведские господа «пребывают в своих прекрасных каменных домах и великолепных дворцах, и пьют вино и другие изысканные напитки. Руссие же воеводы сидят в своих дымных норах, наливаясь водой и квасом».
Вновь спор зашел о титулах монархов, что едва не привело к срыву переговоров. Шведы встали из-за стола и объявили, что снова будут воевать. Представители великого князя, зная о трудностях Густава Адольфа с вербовкой войска, отвечали ядовито: мол, пусть война. У нашего государя рати не наемные, всегда готовы. Впрочем, резкость и той и другой сторон была показной: на этот раз и шведы, и русские твердо решили подписать мир, каждый раз возвращаясь для продолжения споров в избу английского посредника.
Наконец 27 февраля 1617 года государственное дело пришло к благополучному концу. Послы договорились об условиях мирного договора.
Швеция и Россия торжественно обещали, что все ссоры, происшедшие между двумя государствами от Тявзинского до Столбовского мира, предаются вечному забвению. Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов с уездами, а также Сумерская волость (ныне Сланцевский район Ленинградской области) возвращаются России. Ивангород, Ям, Копорье, а также Поневье и Орешек с уездом переходят в шведское владение. Северо-Западное Приладожье с городом Корела (Кексгольм) с уездом также отходят Швеции. Россия выплачивает Швеции контрибуцию в размере 20 тысяч рублей серебряной монетой.
Особенно упорные споры шли о жителях передаваемых Швеции русских территорий. Короне нужны были рабочие руки. Малонаселенная Швеция не могла заполнить переселенцами приобретенные города и деревни, несмотря на развернутую в стране вербовочную кампанию. «И свейские послы почали сердитовать: что де им в пустых городах, только людей выпустить и оставить одни стены», — сообщали в своем отчете о ходе переговоров по этому пункту русские послы.
Наконец договорились о компромиссе. Крестьян и сельских священников, без которых землепашцев на месте не удержать, великий князь навечно отдавал Швеции. Прочие люди — монахи, дворяне и вольные городские жители — могут сами выбирать, где они хотят жить. На раздумье им давались две недели, в течение этого срока шведы обязались бить в набат и дуть в трубы, чтобы никто не забыл о возможности переселения. Затем все русские становились шведами, и великий князь был обязан выдавать назад беглецов, под угрозой новой войны.
Местом заключения соглашения о границе стал специально построенный мост на пограничной реке Лавуе, впадающей в Ладогу, посреди которого 27 сентября 1617 года встретились русские и шведские уполномоченные.
Каждая делегация прибыла со своим собственным шатром и столом. В два ряда выстроились войска. Все было готово к действу, но возникло новое препятствие: за чьим столом и в чьем шатре собраться? Это был территориальный спор, и никто не хотел уступить ни пяди. Наконец сдвинули шатры вместе точно у пограничной линии. По сигналу полы шатров следовало откинуть, послы, как заводные куклы, должны были одновременно подать друг другу руки и сесть… Но куда? Шведы требовали, если уж русским так важно подписать соглашение за их собственным «государевым» столом, вдвинуть его одной половиной в шведскую палатку, оставив другую половину на их собственной территории. Русский посол князь Федор Борятинский отказывался: такое размещение означало бесчестье для великого князя.
Долго спорили, и шведы уступили: в конце концов, что значит символический временный проигрыш нескольких метров, если они получают в вечное владение огромные территории с многочисленным населением? Шведское посольство перешло из своего шатра в царский, перетащив туда лишь собственную скамью. Это была крупная победа русской дипломатии. Послы поставили подписи на пергаменте. Грянул ружейный салют. Ударили барабаны. Столбовский мир был окончательно оформлен. В том же 1617 году состоялись торжественные церемонии ратификации договора в московском Кремле и Стурчуркане (церкви Св. Николая) в Стокгольме.
Как докладывали шведские послы, московиты в очередной раз решили поразить их воображение великолепием одежд и пышностью обряда. По обе стороны царского крыльца от самого дома послов длинными рядами были выстроены полторы тысячи стрельцов. Когда приглашенные, пройдя через красочный живой коридор, поднялись в тронную залу, там их встретили бояре в золотой парче и высоких шапках из чернобурки. Великому князю, восседающему на троне, с поклонами поднесли на золотом блюде крестоцеловальную грамоту. Этот документ «освятили» снизу и сверху, подложив под грамоту икону, а ее саму придавив золотым крестом, украшенным драгоценными камнями. Двое знатнейших бояр сняли с царя корону, третий бережно перенял у него посох. Государь, шагнув, приложился к распятию и поцеловал его. Отныне договор получил «небесное укрепление».
Торжества в Стокгольме, как доносили русские послы, ни в чем не умалили достоинства великого князя, пройдя с подобающим размахом. О том, что на церемониях, где присутствуют московиты, нельзя экономить, распорядился лично Густав Адольф, поскольку русские «по своей природе таковы, что с большим высокомерием и неотесанностью следят за внешними проявлениями чести».
Сначала палили из пушек, стреляли из ружей и трубили, чтобы создать праздничную атмосферу. Затем послов, проведя мимо нескольких выстроенных полков, проводили в храм, украшенный драгоценными персидскими коврами. Возле алтаря стоял посеребренный стол с королевскими регалиями. Церковь была полна народу, слух которого в ожидании появления короля со свитой услаждали органной музыкой. Наконец прибыли король, его брат-принц, канцлер и члены королевского совета. Густав Адольф сел на трон, рядом в креслах разместились сановники. Придворные ниже рангом и представители города стояли. Упсальский архиепископ, взойдя на высокую кафедру проповедника в середине церкви, произнес прочувствованную трехчасовую речь о благе мира. «И в ыных словах король и королевич вставали, и падчи король лежал и плакал с час и болши», — удовлетворенно отмечали царские посланцы.
Затем канцлер Оксеншерна прочел текст мирного договора, и король каждый раз приподнимался с места, когда упоминалось имя великого князя, а послы вставали при произнесении имен русского и шведского государей. Когда чтение закончилось, король, перелистав Евангелие, нашел подходящую цитату, гласившую: «В начале было слово». Положив Библию на грамоту, Густав Адольф прикоснулся к выбранным строкам тремя пальцами, сложенными для крестного знамения, и поклялся от своего имени и имени своих наследников нерушимо соблюдать договор.
Церемония завершилась пушечным и оружейным салютом и роскошным пиром. Для Швеции это было великим событием. Густаву Адольфу наконец-то удалось осуществить дело, задуманное еще Густавом Вазой почти сто лет назад: продвинуть границу так далеко на восток, чтобы отсечь Московию от Балтийского моря, и благодаря этому сделать Швецию посредником в обширной русской торговле с европейскими странами.
Была достигнута и еще одна не менее важная цель. Финляндия отныне была защищена от нападений с востока озерно-речной сетью, обширными болотами и крепостями. Часть границы проходила через Ладожское озеро. «Я полагаюсь на Бога, что отныне русскому будет трудно перепрыгнуть через сей ручеек», — заявил Густав Адольф в своей речи перед сословиями.
Благодаря новым территориальным приобретениям Швеция стала третьим по площади — после России и Испании — европейским государством. «Перевес» к востоку был столь велик и возможности новых приобретений в России казались столь соблазнительными, что король и канцлер даже обсуждали проект переноса королевской резиденции в Нарву, откуда было легче направлять движение империи.
Между тем начались будни воплощения соглашения в жизнь. 13 марта 1617 года, как и договорились, шведские гарнизоны покинули переходящие великому князю города и крепости. Был очищен и Новгород. Из ворот тянулась бесконечная вереница подвод с больными и умирающими. Царские представители следили, чтобы в санях не было пушек, колоколов и церковной утвари, которые шведы обязались оставить в городе. Шведы вышли — и в Новгород торжественно вступили царские послы. Они везли с собой список с чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери, спасшей, как считалось, Тихвин от шведов, и царскую грамоту, «с дарованием милостивого прощения всем тем, кои от страха или неволею усердствовали Шведам».
Великий князь спешил убедить новгородцев, что им незачем бояться повторения побоища, которое некогда устроил Иван Грозный лишь из-за одного подозрения о сговоре Новгорода с Литвой. «Которые люди, будучи у Свейских людей, им доброхотали и служили, и во всем были им покорны, и волю их творили волею и неволею, и тех по тому ж мы Великий Государь, по нашему Царскому милостивому нраву, жаловати хотим, никто б ничего от нас Великого Государя не опасался: как было, будучи у Свейских людей в руках, их воли не творити?» — говорилось в царском послании.
Впрочем, ни казнить, ни жаловать было практически некого. Послы великого князя составили опись состояния Новгорода после выхода оттуда шведов, в которой, в частности, говорилось: «На Софийской стороне белых 24 двора, а жильцов в них 25 человек, тяглых 40 дворов, а жильцов в них 49 человек. А опричь того на Софийской стороне дворов нет, вся Софийская сторона стоит пуста, дворы и лавки сожгли». Лучше сохранилась торговая сторона, где шведы не стояли. Там уцелело 429 дворов, в которых писцы зафиксировали 764 жильца.
О причине малолюдства красноречиво говорится в одной из челобитных, поданных царским послам: «Как были в Новегороде немецкие люди, и от их великих налогов и правежев многие посадские людишки сами на себя посягали, давилися, а иные, не терпя великих правежев и мучения, разбрелися розно, да и те людишки на дорогах от литовских и от немецких и от воровских людей побиты, а иные с мразу и с гладу в лесах померли».
На оставленных шведами оккупированных землях началась гигантская инвентаризация. Специально назначенные комиссии считали все — от колоколов, в том числе битых и горелых, до кабацких чанов и пушек. Доносы о русском имуществе, тайно увезенном или спрятанном шведами в нарушение договора, текли густым потоком. Кто-то видел, как шведы ночью вывезли из Новгорода три пушки, укрыв их сеном, кто-то сообщал, что шведы зарыли в землю несколько колоколов, чтобы потом выкопать их и похитить при удобном случае. «Верните! Заплатите ущерб! Докажите, что не брали!» — требовали русские комиссары.
Много хлопот вызывала и борьба за людей. Царские представители жаловались, что шведы насильно удерживают в отошедших к ним городах ремесленников, в том числе пушкарей, а с тех, кто хочет переехать в Россию, берут взятки. Шведы, в свою очередь, обвиняли царских слуг в нежелании высылать назад исконных шведов, толпами перебегавших на земли великого князя в поисках лучшей доли. По огромной приграничной территории шла загонная охота. Как русский царь, так и шведский король старались поймать в свои сети как можно больше народа, пока на границах еще не установлены прочные заставы, а людишки растерянны и не сообразили, куда им лучше приткнуться.
В годы шведской оккупации сотни представителей высших слоев русского общества, от высокородных бояр до мелкопоместных дворян, верой и правдой служили Густаву Адольфу. Они тем более нужны были королю сейчас, чтобы держать в повиновении массу его новых русских подданных. Но великий князь успел отправить многих из этих полезных людей в глубь своей обширной страны, в Сибирь и на Каспий. «Вы их несправедливо сослали. Приведите дворян к границе, и пусть они в нашем присутствии изъявят свою волю, кому хотят служить!» — взывали шведские комиссары. «Они не сосланы, а добровольно отправились служить нашему самодержцу. Вызывать их на границу незачем», — с достоинством парировали русские представители.
Шведам приходилось смириться с тем, что своих былых союзников они уже никогда не увидят. Впрочем, многие знатные русские все же остались на шведской стороне. Они вели сейчас агитацию в отошедших короне городах, призывая жителей сменить подданство. Православие останется в неприкосновенности, а их монархом будет просвещенный и милостивый шведский король, под защитой которого они забудут о тирании великих князей!
Наиболее отчаянные из вербовщиков заезжали и на другую сторону границы, уговаривая население переходить в Швецию. В конце концов русские послы поставили шведам ультиматум, требуя по разным делам присылать в Россию лишь шведов, а не русских, перешедших на их службу: «Чтоб те русские люди меж великого государя нашего, царя и великого князя Михайла Федоровича, всея Руси самодержца, его царского величества и вашего вельможного государя, короля Густава Адольфа Свийского ссоры не учинили: а опроч ссоры меж государей и государств от тех людей чаяти нечево».
Густав Адольф даровал шведское дворянство множеству высокопоставленных русских, перешедших на его службу, с присвоением им гербов и раздачей поместий в новых восточных землях. Так в Швеции появились дворянские фамилии явно русского происхождения: Аминофф, Аполофф, Баранофф, Бутерлин, Клементеофф, Голавитс, Калитин, Нассокин, Пересветофф-Мурат, Росладин, Рубзофф. В некоторых гербах, как уверяют знатоки геральдики, не чуждый иронии король навсегда запечатлел переход их владельцев от одного государя к другому. Олени и лани, грациозно скачущие по щитам, развернуты нетрадиционно, направляя свой бег с востока на запад. Впрочем, об измене в сегодняшнем понимании этого слова говорить не приходится. Переход на службу от одного государя к другому считался в Европе обычным делом, верность следовало сохранять лишь своей религии. В этом отношении «рюссбайор» (русские бояре), как целое столетие, вплоть до начала XVIII века, называли в Швеции представителей восточного пополнения шведского рыцарства, свои убеждения не меняли. Лишь их дети, когда в конце XVII века в шведской Ингерманландии началось целенаправленное искоренение православия, стали переходить в лютеранство.
Если «русские бояре» были свободны в своем выборе и потому могли легко относиться к сыпавшимся на них со стороны подданных великого князя обвинениям в измене, то на крестьян и священников обрушилась двойная несправедливость. Сначала их, точно скот, передали от одного хозяина другому, а затем стали проклинать как «отметчиков». Духовным главой шведских православных приходов оставался новгородский митрополит, и, когда сельские священники из-за границы приезжали в Новгород по своим делам, митрополит срывал с них скуфьи и отсылал назад без благословения, говоря с упреком, что если бы они убежали, то и крестьяне бы за ними пошли.
«И все делаетца против учиненного мирного постановленья, что его королевского величества подданные тем обычаем от его царского величества подданных лаяны, проклинаемы и позорены», — жаловались шведы на переговорах. Бояре отвечали на это лукаво: мол, дела действительно творятся нехорошие, но на митрополита влиять они не могут, сам царь в дела церковные не вмешивается.
Едва поутихли имущественные споры и удалось совместными усилиями справиться с людскими толпами, перетекавшими от одного государя к другому, как возникли конфликты при разметке границы. В конце 1617 года на сотни километров был лишь один пограничный знак — камень в местечке Салмис к северу от Ладоги, на котором была высечена надпись: «Здесь установил Густав Адольф, король Швеции, крайний рубеж своего государства. Да пребудет дело рук Его вечно Промыслом Божиим».
От ловкости и хладнокровия межевых комиссаров зависело многое. Они могли бескровным способом отвоевать для своих монархов десятки квадратных километров чужой территории. Межу, то есть границу, вели по рассказам местных крестьян, так называемых старожильцев, издавна прикрепленных к определенному участку земли. Они могли сказать, что граница, например, Копорья исторически идет во-он вдоль того болота в двадцати километрах к западу. А могли и крест поцеловать на том, что где стоят, там и есть линия раздела.
Если мнения старожильцев расходились, а иных документов не находилось, комиссары должны были решать дело по жребию. Если везло русским, старожильцы целовали крест великому князю, обходя затем участок границы с иконой. Нет — землепашцы становились шведами. Надо ли говорить, какие страсти разгорались при столь несовершенных методах межевания! Жалобы на произвол и применение запрещенных приемов сыпались с обеих сторон.
В Стокгольм на стол Густаву Адольфу ложились русские «слезницы», доказывавшие монарху, что его комиссары бьются за интересы короны как только могут: «А на корельской стороне государя вашего межевалные послы Анц Мук с товарыщи межи отводят не прямо, насилством, и з жеребья, с образом и по старожилцове скаске по прямой меже не идут и делают во всем упрямством мимо приговор свой…» «Все делают насильством, хотят отмжевать в разных местах себе в длину 40 верст в ширину 30 верст». «Межи кладут во многих местах по государя нашего, его ц. величества земле, не по старожильцовым скаскам и не по сыску волосных людей, своим произволом…»
Русские комиссары, однако, не уступали шведам в изобретательности, когда дело касалось нарезки государственной земли. Чего только стоит одно из посланий Густава Адольфа царю, в котором шведский монарх возмущается действиями слуг русского самодержца! Те, в частности, «приказали своим старосельцам оскорбить Его Королевское Величество, распорядившись, чтобы те спустили порты и повернулись голыми задами к Нашим комиссарам. Так они встали, что стыдно и описывать сие».
Окончательно граница была установлена лишь в 1621 году, четыре года спустя после заключения мира. Впрочем, большинство жителей России даже к этому времени не знало о том, что страна с 1617 года отрезана от Балтийского моря, а сотни тысяч их соотечественников стали шведами. Текст Столбовского мира, открыто оглашенный в Швеции, держался в России в тайне. Великому князю не хотелось, чтобы об огромных уступках, сделанных им Швеции, знали его подданные. В памяти еще были свежи воспоминания Смуты, искра могла вспыхнуть по любому поводу.
Но цена государственной тайны оказалась всего в один рубль. В архивах сохранился любопытный документ от 1627 года: расспросные речи новгородского воеводы Одоевского и двух дьяков, расследовавших по распоряжению Москвы факт утечки государственной тайны. Вот как это произошло.
Подьячие шли к себе в приказ Большим рядом новгородского торга и увидели, что у лавки Богдана Шори на стоят люди и «чтут лись харатейный» — грамоту царя Михаила Федоровича шведскому королю о мирном договоре. Титул царя был, докладывали дознаватели, написан золотом, а «посольская договорная грамота вся описана подлинно». Сиделец в лавке Шорина Срегушка сообщил, что его хозяин взял ее у Степана Прокофьева для снятия копии и положил в лавку. Из показаний Степана Прокофьева выяснилось, что после Столбовского договора его отец отправился из Новгорода в Москву, где пробыл четыре года, вернулся назад в 1621 году «и ту де грамоту привез с собою». Дал ему эту грамоту подьячий, который ее писал, и взял за нее рубль. Сын Степана Прокофьева позволил Богдану Шорину посмотреть грамоту, но тот божился, что «с то во листа себе ничего не списывал, для того что де то дело великое». Степан Прокофьев к тому времени уже умер, с остальных новгородцев спросить было нечего. Дело закрыли.
В 1700 году нападением на Нарву царь Петр Первый начал Северную войну, перечеркнувшую Столбовской договор. Россия вернула себе все потерянные земли и вышла на Балтийское море, отодвинув свои границы со Швецией далеко на запад.
Канцлер Оксеншерна пророчески писал в 1615 году, в период наибольших удач шведского оружия на востоке, что русские за время Смуты «многому от чужестранцев научились, потери заставили их произвести значительные улучшения в своей организации и военном деле». И это делало их опасными в будущем.
Назад: Опоздание ценою в царство
Дальше: Библиография

