Капитан летающего сарая
Повесть

— Какое у тебя звание?
Честно говоря, я не ожидал, что этим вопросом прямо на пороге штурманской комнаты меня встретит мой командир Иннокентий Ватрушкин.
После окончания лётного училища, в новенькой серой лётной форме и белой рубашке, наглаженный и начищенный, я приехал на свой первый вылет.
— Лейтенант, — бодро ответил я, ещё не понимая, к чему этот неуместный вопрос.
— Вот что, лейтенант! — Ватрушкин сделал паузу, быстрым глазом оглядел мою форму и строго произнёс: — Если хочешь стать капитаном, больше на вылет не опаздывай!
Я машинально глянул на часы. До вылета в Жигалово, который значился в нашем задании, оставалась ещё уйма времени, целых пятьдесят минут. Тем более что рейс был почтово-грузовым, есть-пить не просил и жаловаться на задержку с вылетом у него причин не было.
— Это не твоё время, — словно угадав мои мысли, строго сказал Ватрушкин. — На вылет надо являться за час, а тот, кто хочет стать капитаном, является за два.
Я промолчал. Хотя Ватрушкину не было и пятидесяти, но он был знаменит: про него говорили, что он знал самого маршала Иосипа Броз Тито. Друзья завидовали: мне повезло, что буду летать с таким опытным командиром.
Ватрушкин был одним из немногих, кто пришел в авиацию во время войны пятнадцатилетним мальчишкой. Был мотористом, потом переучился и стал лётчиком. Говорили, что во время войны он бывал в Италии, в той самой авиационной части, которая спасла Тито, когда его штаб в Югославии обложили немцы.
Были у Ватрушкина и взлёты, когда он командовал авиаотрядом в Киренске, были и падения, и тогда ему приходилось начинать свою лётную жизнь с нуля. Впрочем, начальство, уважая его боевое прошлое, с пониманием относилось к его очевидным слабостям. Например, всем была известна его склонность к послеполетным фронтовым, как он выражался, ста граммам. Для острастки иногда ему всё же грозили пальцем, мол, смотри, Михалыч, последнее предупреждение. Но где найдешь такого лётчика! Такие на дороге не валяются.
Ватрушкин был лётчиком от Бога, ему доверяли самые трудные задания. Он летал на аэрофотосъёмку, садился там, где и ходить-то было опасно. Он знал все пригодные и непригодные для посадки площадки, доставлял туда врачей, вывозил больных и не считал, что делает что-то особенное.
— Нам сказали — мы слетали, нам бы стопочку подали, — посмеиваясь, говорил он, вернувшись из очередного полёта.
К нему в экипаж меня направили после того, когда его очередной второй пилот Коля Мамушкин на оперативной точке прогулял с местной красавицей всю ночь, а утром пришёл на вылет, как было написано в медицинском протоколе, с остаточными явлениями алкоголя в крови. Наказание последовало незамедлительно: Мамушкина собирались уволить. Чтобы спасти его, Ватрушкин предложил на полгода отправить его на одну из вновь открывшихся посадочных площадок на севере области. Лётное начальство пошло ему навстречу: Мамушкина вначале отправили в Карам, а затем перевели в Ченгилей.
Сделав мне начальственное внушение, Ватрушкин приказал бежать на грузовой склад и получить почту, а если подвернется, то и попутный груз.
— Чтоб через двадцать минут всё было в самолёте! — добавил он.
На складе нашу почту никто пока не загружал. И, судя по всему, не собирался. Грузчики принимали московский рейс.
— Людей у меня нет, — развела руками начальница грузового склада. — Если хочешь вылететь вовремя, грузи сам. Кстати, вот ваша сопровождающая.
Она показала на светловолосую девчушку, которая упаковывала парашютную сумку. На ней была синяя колоколом юбка, и, когда она приседала, мне она напоминала подпрыгивающий шарик.
— Так это, значит, вас мы повезем до Жигалово? — сказал я, подождав, пока шарик отскочит от земли.
Девушка резко обернулась. На меня глянули огромные, в пол-лица, глаза.
— Что значит «повезем»? — медленно произнесла она, оглядев меня с головы до ног, и я увидел, как слабая улыбка тронула её губы, мол, что за неуместный вопрос. — Возят груз, а я лечу сама.
Шмыгнув носом, она присела и продолжала впихивать в сумку бумажный пакет.
— Давайте помогу, — я взял пакет и, нагнувшись, открыл сумку пошире. В ней был собранный по всем правилам ранцевый парашют.
— Вы поосторожнее, там у меня специи, приправы, — сказала девушка.
— Что, решили этого кабана, — я кивнул на парашют, — замариновать? Откуда он у вас?
— Мне его подарили, — ответила девчушка. — Вот, везу с собой как учебное пособие.
— Вы, случаем, автомат Калашникова не везёте? — не очень удачно пошутил я.
— Да если бы и везла, вам-то до этого какое дело!
Ответ оказался неожиданным: сопровождающая вела себя так, точно она, а не я, могла определить, что именно можно везти в самолете. В её голосе я услышал обиду. Но меня это не остановило, более того, я решил поставить пассажирку на место.
— Мне до всего есть дело, — стараясь придать своему голосу необходимую твёрдость, сказал я. — У вас, должно быть, и документы на всё это есть?
Девушка выпрямилась, глаза её стали узкими и сверкнули, как бритва. Мне даже показалось, что сейчас произойдёт короткое замыкание. Но она погасила взгляд и спокойно произнесла:
— У меня нет с собой ничего такого, что запрещено брать на борт.
Я отметил, что она грамотно и почти профессионально сказала «борт», а не «самолёт», как говорят те, кто не имеет отношения к авиации.
— И паспорт у вас с собой?
Я решил не сдаваться и, очевидно, сказал очередную глупость, но понял это лишь тогда, когда она протянула мне паспорт: ну, не милиционер же я, в конце концов!
— Анна Евстратовна Каппель, — почему-то вслух прочитал я. — Да-а-а… фамилия у вас.
— Что, и это не нравится? — спокойно, но уже с некоторым вызовом спросила девушка, забирая паспорт. — Вообще-то я закончила советский пединститут. И вот, по милости нашей славной авиации, уже который день торчу здесь, пытаясь добраться до места своего распределения. Если надо, то я могу показать вам все свои документы. И медицинскую справку, что меня допустили к полётам. Кстати, груз прошел все необходимые проверки. Везу школьные материалы и наглядные пособия.
— И как же называется конечная точка вашего путешествия?
— Почти Северный полюс — посёлок Чикан. Когда прилечу, мне в рай- оно точно укажут. Туда и поеду.
— Но в Чикан самолеты летают только зимой! — воскликнул я. — От Жигалово туда еще семь верст киселя хлебать. Ну, если, конечно, воспользоваться парашютом, тогда можно добраться и быстрее.
— Что хочу, то и везу! — неожиданно рассердилась будущая учительница и поставила парашютную сумку на поддон, где уже лежали гитара, школьный глобус, объемистый чемодан и еще какие-то узелки, коробки и сумки. Рядом с вещами «парашютистки», так я про себя окрестил учительницу, лежали затянутые в материю белые посылки и серые газетные мешки.
Препираться далее не имело смысла, всё это хозяйство надо было поскорее отвезти на самолёт. Свободная грузовая машина стояла метрах в двадцати от поддона, но переносить эту поклажу на себе я не собирался. Я глянул на себя со стороны: через пять минут парадная форма превратится в робу грузчика. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Возле стены стоял грузовой кар, я подошел, подергал рычаги. Он подал признаки жизни, и я, забравшись на сидение, потихоньку подогнал его к нашему грузу, кое-как, со скрипом, загнал его железные клыки под поддон и, приподняв, начал разворот в сторону грузовой машины. Погрузчик вел себя послушно, нацелившись на кузов, и я дал многотонной махине ход. Она, урча и переваливаясь на неровностях, покатила вперед. Когда до кузова оставалось метра два, я начал давить на педаль тормоза, но погрузчик вдруг показал свой норов: он даже не сделал попытки затормозить и через пару секунд со всего маху врезался в кузов грузовика. С ужасом я увидел, что все посылки, мешки и коробки посыпались на бетонный пол. Но и это не остановило набравшую скорость машину: погрузчик, словно разъяренный слон, боднул кузов машины, она тронулась с места и опрокинула стоявшую впереди тележку с московской почтой. Сделав свое чёрное дело, погрузчик покрутил ещё немного колёсами и заглох.
И тут набежал народ! Учительница кинулась спасать свои школьные принадлежности, я бросился помогать ей, машинально откладывая в памяти: гитара цела, глобус не повреждён — их спасла парашютная сумка, приняв весь удар на себя. От гнева работников грузового склада меня спасла новенькая форма и любовь народа к молоденьким лётчикам. А то бы точно запихали под погрузчик…
Однако вскоре я к своему ужасу услышал, что грузовой терминал закрыли по техническим причинам, о чем тут же мне по телефону пришлось доложить Ватрушкину.
Он уже был в курсе и сухо поинтересовался причинённым ущербом.
— Так, мелочи. Раздавил пару посылок, — быстро ответил я. — Но мне обещали, что составят акт, там ничего бьющегося не было.
Говорил я машинально, но бодро, пытаясь утаить размеры катастрофы.
— Хорошо, что только грузовой прикрыли, могли бы закрыть аэропорт. Тогда бы точно башку нам открутили, — буркнул Ватрушкин. — Ты там меня жди, я сейчас подойду.
— Кто твой командир? — нацелившись ручкой в лист бумаги, строго спросила меня начальница ночной смены с поджатыми накрашенными губами. Я понял, что сейчас на меня будут составлять протокол.
— Иннокентий Ватрушкин, — буркнул я.
— А-а! Командир, как его, ах, да, вспомнила — сарая! — Накрашенная неожиданно прыснула, но тут же сделала строгое лицо:
— Если бы не он, то спустила бы с тебя штаны и выпорола как следует. Чего стоишь, давай, собирай свои посылки.
Она захлопнула блокнот и ушла к себе. Мне в помощь она прислала грузчика, который больше смахивал на породистого прикормленного волкодава.
— Выходит, с Кешей летаешь, — не то спросил, не то подтвердил свой вопрос грузчик и засмеялся лающим смехом.
— С ним, — я кивнул головой.
— Повезло!
— Не понял?
— Я говорю, тебе крупно повезло.
И всё равно я не понял, с чем мне повезло: с командиром или с тем, что я мало раздавил посылок.
Грузчик присел на поддон, достал сигарету.
— Ты не переживай. Кто из нас в детстве мимо горшка не ходил.
Я бросил взгляд на учительницу, слова грузчика выходили за пределы педагогической этики, но вполне укладывались в те рамки, которые используют мужики, обсуждая сугубо деловые проблемы. Грузчик почему-то посчитал, что моя случайная напарница заслужила доверительного мужского общения. Но меня покоробило, что посторонний человек приравнял мой возраст к младенчеству, не хватало еще, чтоб мне соску подали.
— Ты не бери в голову! — грузчик неожиданно рассмеялся, кивнув на разбросанные вещи, которые собирала будущая учительница. — Это мелочи. А вот года три назад произошло такое! — Грузчик вновь зашелся лающим смехом. — Три дня аэропорт не работал. Все ассенизаторские машины города были тут.
— Что, так много наделал?
— Наделал. У них в экипаже был радист. В то время в городе дрожжей днем с огнем не сыскать было, вот он и привозил откуда-то с севера дрожжи. Какая бражка обойдется без этого продукта, да и хозяйкам в стряпне он нужен. Кому-то это шибко не понравилось, сообщили куда надо, и к прилёту самолёта милиция в аэропорт пожаловала. Но Кешины друзья успели предупредить, так, мол, и так — встречают… Они сели и порулили к вокзалу. Но по пути, чуть в сторонку свернули, туда, где общественный сортир на восемь дыр стоял. Его еще до войны соорудили и, считай, что с того времени не чистили. Кеша притормозил, прикрытый самолётом радист выскочил и выбросил дрожжи.
Я увидел, как учительница насторожилась, затем сделала попытку поднять свой чемодан. Грузчик выказал неожиданную прыть. Оборвав на полуслове свой рассказ, он перехватил у нее ручку чемодана и хотел одним махом забросить его в кузов. И неожиданно опустил чемодан на землю.
— Что там? — глухо спросил он.
— Книги, — виноватым голосом сообщила «парашютистка». — Я учительница.

— Слава Богу, что не пианистка! Такие тяжести будете носить, родить не сможете. — Набрав побольше воздуху, грузчик, как штангист перед снарядом, выдохнул и поднял чемодан в кузов. — Так вот, милиция обыскала самолёт, — продолжал он с той же улыбкой, — но ничего не нашла. А тут, как назло — жара, каждый день за тридцать, ну, всё и поплыло! Что было! Стометровую санитарную зону вокруг аэропорта обозначили, потом бульдозерами яму засыпали и возвели нормальный толчок.
— Выходит, не было бы счастья?
У меня на языке вертелся вопрос, почему начальница смены грузового склада назвала Ватрушкина командиром сарая, но не решился, не та была обстановка, чтобы заводить разговор на эту тему.
— А у нас всё через задницу доходит, — философски подытожил грузчик и, присев на поддон, достал пачку папирос. Было видно — ликвидировать почтовый завал он не торопился.
Поскрипывая кожаной курткой, подошел Ватрушкин, и мне показалось, что с его приходом в сумрачный тёмный склад заглянуло солнце. Тут же откуда-то набежали женщины, окружили моего командира, защебетали. Иннокентий Михайлович, как и подобает знатному жениху, начал их обнимать, впрочем, вскоре я убедился, что он ни на секунду не забывал о цели своего визита.
— Мои любимые и дорогие! — рассыпая синь своих глаз, с улыбкой говорил Ватрушкин. — Грех свой признаем, и за непредвиденную работу обязуемся привезти вам рыбки. И всего, чего вы пожелаете.
— Мы много чего можем пожелать! — смеялись женщины.
— Не сомневайтесь — исполним. Чего не сделаю сам — попрошу вот этого лейтенанта.
— Да он ещё, поди, нецелованный!
— Вот вы ему урок-то и дадите.
Меня подставляли здесь самым наглым образом, я краснел и потел, но приходилось терпеть: сам виноват, какие уж тут могут быть обиды. Краем глаза я видел, что учительница, посмеиваясь, с сочувствием поглядывает в нашу сторону.
Появление Ватрушкина сделало свое дело, и через несколько минут уже не только мой ленивый, но разговорчивый «волкодав», но и вся смена собирала посылки и газетные пачки.
Произошло чудо: завал исчез, и мы взлетели почти по расписанию, и, набирая высоту, отвернув подрагивающий мотор от города, взяли курс на север. Через минуту, открутив Весёлую гору, винт нашего самолета пошёл жевать Кудинскую долину, на которой, как и тысячу лет назад, буряты пасли скот. Минут через двадцать на капот стала наползать Усть-Орда.
Почему-то я вспомнил Золотую Орду и подумал, что то разорение, которое пришло с монголами на Русь, было несравнимым с тем, какое произошло по моей вине на грузовом складе. Далее мои мысли перепрыгнули к более поздним временам, я припомнил, что по тому пути, который связывал Иркутск с Леной и вдоль которого сейчас летел наш самолёт, началось освоение Якутии. Да чего там Якутии — по этой дороге шло приращение России, по ней добрую сотню лет снабжали товарами всю русскую Америку. Позже этот путь был хорошо освоен ссыльными, которых направляли сюда на поселение. Все это я вычитал в книгах, когда начал готовиться к полётам по северным трассам.
Минуты через две после Усть-Орды Ватрушкин, выкурив очередную папиросу, решил подремать.
— Если что, толкни меня, — сказал он и, подперев ладонью голову, прикрыл глаза.
Я покрепче взялся за штурвал: уже не в тренировочном полете, а в самом что ни на есть настоящем рейсе мне доверили вести самолёт. Сличая карту с местностью, я про себя отметил, что вскоре должно показаться озеро, а за ним будут Ользоны.
Время от времени я нет-нет да и поглядывал в грузовую кабину, где, впялившись в боковой иллюминатор, сидела Анна Евстратовна. Поймав её взгляд, я махнул рукой, приглашая в кабину. Она не стала отнекиваться и подошла к кабинному проходу.
И тут дремавший до сей поры командир приоткрыл глаза. Он оглядел пассажирку, затем молча достал стопорящую рули красную металлическую струбцину, засунул ее учительнице за спину и предложил сесть. Она с некоторой опаской и растерянностью выполнила его просьбу. Я, зная, что труба не лучшее средство для долгого сидения, начал крутить головой, чтобы найти что-нибудь поудобнее. И тут Ватрушкин, словно читая мои мысли, достал из сумки толстый регламент и быстрым, почти неуловимым движением засунул его под учительницу. Я даже восхитился, как он молниеносно проделал эту операцию и как она быстро поняла, что от нее требуется, почти синхронно приподняв со струбцины своё лёгкое тело. Почти неуловимо она глазами поблагодарила Ватрушкина, а он чуть заметным кивком ответил, и, закурив очередную папиросу, начал расспрашивать: кто она такая и зачем летит в северные края.
Позже я не раз стану свидетелем того, как совсем посторонние люди будут открывать Ватрушкину свою душу, свои незамысловатые тайны, рассказывать и доверять то, чего хранили в своей душе за семью печатями.
Анна Евстратовна быстро разговорилась, и уже вскоре мы знали про неё всё.
Оказалось, что отец её был военным лётчиком, а мать — учительницей, и всю жизнь они мотались по гарнизонам, пока отец был жив. К нашему несказанному удивлению, она хотела стать лётчицей, в школе записалась в парашютный кружок, участвовала в соревнованиях и совершила больше ста прыжков. Когда я услышал такое, мое лицо вытянулось в морковку, и нос нашего самолета пополз в сторону от курса, что вызвало мгновенную реакцию командира: он лишь слегка двинул ногой и вернул самолет на заданный курс.
— Всю жизнь мечтала летать, но пилотом так и не стала, — с грустью в голосе поведала Анна Евстратовна. — Девушек в лётное в мирное время не берут. Пришлось поступать на исторический.
Когда пролетали Ангу, Ватрушкин, ткнув пальцем в стекло кабины, сказал, что в этом селе родился будущий патриарх всея Руси Иннокентий Вениаминов.
— Он был митрополитом Московским и Коломенским, — поправила его учительница. — В России в то время был синодальный период, патриаршество было упразднено. Но вы правы, то положение, которое занимал Иннокентий, по сути, было патриаршим.
Нос самолёта вновь повело в сторону, но я вовремя спохватился. Таких тонкостей церковной жизни в лётном училище не преподавали, там учили одному: чётко держать курс. «Ну ладно, историки должны это знать, но откуда Ватрушкин знает?» — думал я. Нет, не прост был мой командир, совсем не прост!
— А вон и Верхоленск! — вновь ткнув пальцем в стекло кабины, сказал Ватрушкин. — Посмотрите, какая замечательная церковь.
Анна Евстратовна привстала и внимательно вглядывалась в ниточки поселковых домов.
— Моя мама здесь родилась, — сообщила она. — А я здесь никогда не была.
— Так надо было сюда и попроситься, — сказал Ватрушкин.
— Но это другой район, я не знала.
— А вот скажи, мне, дружок, — командир неожиданно повернулся ко мне. — Если у тебя нет компаса, как можно, глядя на церковь, определить стороны света?
От неожиданности я вспотел: надо же, учинил мне экзамен при этой пигалице.
— Можно определить по кресту, — ответила за меня учительница. — Помимо большой перекладины на кресте есть нижняя малая. Верхний конец ее всегда указывает направление на север.
— Верно, — заметил Ватрушкин. — Если есть солнце, то сторону света можно определить по часам.
— Еще по деревьям, — наконец-то и я пришёл в себя.
— Весной — по снегу, — добавила учительница.
От навигации командир перешел к астронавигации, похвалил казаков-землепроходцев, которые без компасов и моторов дошли до Восточного моря — так в России в старину называли Тихий океан.
Пока командир вел светскую беседу с пассажиркой, я запросил погоду Жигалово. Сводка оказалась неутешительной: к нашему прилёту ожидалось усиление ветра до штормового. И самым неприятным было то, что дул он поперёк посадочной полосы. Для нашего самолета предельно допустимой нормой было восемь метров в секунду. Но фактически сила ветра была одиннадцать, с порывами до пятнадцати метров. Я доложил о фактической погоде Ватрушкину.
Нужно было принимать решение — следовать в Жигалово или уходить на запасной аэродром. Запасным у нас была Усть-Орда, которую мы пролетели час назад. Был еще Качуг, но он с утра был закрыт по техническим причинам: там ремонтировали полосу. Был еще вариант: лететь до Осетрово, но туда могло не хватить бензина.
— Следуем к вам, — сообщил Ватрушкин свое решение жигаловскому диспетчеру. — К прилёту прошу сделать контрольный замер ветра.
И Ватрушкин, и диспетчер понимали, что вся связь пишется на магнитофон, по правилам полётов на Ан-2 боковой ветер не должен был превышать восемь метров.
Через несколько минут Жигалово вновь вызвало нас на связь. Голос у диспетчера стал другим, более жестким и встревоженным:
— Ветер усиливается, ваше решение?
— О-о-о! Сам Ваня Брюханов поднялся на вышку, — протянул Ватрушкин и достал свежую папиросу.
— Следую к вам, сделайте ещё раз контрольный замер, — доложил он.
— Уже сделали, семнадцать метров!
— Хорошо. К вам на точку выйду через десять минут, — прикурив папиросу, сказал Ватрушкин. Повернувшись к Анне Евстратовне, он попросил её спуститься в пассажирскую кабину и пристегнуть ремни.
— Это начальник аэропорта Ваня Брюханов, — объяснил мне Ватрушкин. — Он знает, что мне надо восемь, я думаю, мы договоримся.
— Но с ветром вряд ли, — заметил я. — Он-то нас не слышит.
— Пожуем — увидим.
Через десять минут мы были над Жигалово. Было видно, что на земле действительно сильный ветер, полосатый конус на аэродроме стоял колом, макушки деревьев клонило к земле, а на улицах поднимались клубы пыли.
— Сделайте контрольный замер, — попросил Ватрушкин.
— Пятнадцать метров, — спустя некоторое время сообщил Брюханов.
— Вот видите, уже сбавил, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — Я сделаю кружок, а вы сходите на полосу. Судя по всему, ветер стихает.
Вместо ответа в наушниках раздалось нечто нечленораздельное.
Минут через пять, когда Ватрушкин вновь запросил погоду, Брюханов уже с сердцем выдавил:
— Ветер одиннадцать метров. Советую уходить на запасной.
— Он, видите ли, советует! Не страна, а дом советов, — прокомментировал Ватрушкин. И, выждав еще пару секунд, попросил: — Вы еще раз замерьте. А мы постараемся угадать между порывами.
В наушниках вновь произошло какое-то клокотание, через секунду всё стихло, а через пару минут выдохнуло:
— Ветер восемь метров. — Брюханов на секунду умолк, чтобы тут же добавить: — Но о-о-чень си-и-льный!
Ватрушкин показал мне большой палец и начал снижение. Бороться с боковым ветром он не стал, а посадил взбрыкивающий самолёт поперёк полосы. Пробега, в сущности, не было: едва коснувшись земли, самолёт встал, как вкопанный. Но это ощущение было секундным, мне показалось, что ветер сейчас опрокинет нас на крыло. Самолёт начал крениться, и было такое ощущение, что уже без помощи мотора он может самостоятельно подняться в воздух или, чего доброго, его, как щепку, унесёт в овраг. Но Брюханов призвал всех мужиков, кто был на аэродроме, и они, повиснув на крыльях, помогли нам доползти до стоянки. Там самолёт привязали, зачехлили. И тут я наконец-то разглядел Брюханова. Был он крепок и высок ростом, на лице выделялся крупный нос. Он подошёл к крылу, погрозил кулаком Ватрушкину, но через минуту они уже обнимались у дверей самолёта.
Освободившись от своих пилотских обязанностей, я схватил чемодан Анны Евстратовны, в другую руку, для равновесия, взял её парашютную сумку, чертыхнулся про себя, вспомнив грузчика, и поволок поклажу к выходу из салона. Ватрушкин, глянув на мой новенький летный костюм, улыбнулся:
— Ты уж извини, но сюда погрузчиков не завезли, — перекрывая ветер, громко сказал он. — И грузчиков здесь ещё долго не будет.
Вот так, аккуратно, но со значением, Ватрушкин припомнил мне грузовой склад. Я молча проглотил пилюлю.
Много позже до меня дошло: он хотел предупредить меня, что за всеми пассажирками багаж не наносишься, а разгружать и загружать почту и иной груз в маленьких аэропортах придется самому, и что моя новенькая, точно для кино, форма вскоре покроется пятнами, и мне придется то и дело отмывать их и отчищать её бензином. А пассажиры и пассажирки будут помнить меня только до той минуты, как я поставлю на землю их чемоданы, и они, подхватив их, тут же забудут, с кем летели, кто нёс поклажу, и побегут себе дальше по своим делам.
Мои размышления и впечатления прервал налетевший ветер: он сорвал с головы новенькую лётную фуражку и покатил по траве. Я едва успел догнать её, и тут с аэродромной вышки все тот же порывистый ветер чуть ли не в насмешку мне донёс модную в то время югославскую песню из кинофильма «Любовь и мода», которая была больше известна у нас как «Маленькая девочка»:
Всю жизнь мечтала, пилотом стала.
И вот лечу я,
И не страшно ничуть.
Мне пришлось ещё раз сходить к самолёту и, преодолевая порывистый ветер, перетащить остальные вещи Анны Евстратовны к деревянному зданию жигаловского аэровокзала. Анна Евстратовна решила сходить в районо, чтобы сообщить, что она прибыла и готова ехать, куда ей укажут. А нам оставалось лишь готовиться к ночевке: погода испортилась окончательно, и лететь куда бы то ни было или возвращаться на базу нам запретили.
— Вот что, не в службу, а в дружбу, — когда мы уже разместились в пилотской гостинице, сказал мне Ватрушкин, — сбегай до магазина. — Командир протянул мне двадцать пять рублей. — Надо обмыть твой первый полёт. Возьми коньяк. — На какое-то мгновение командир призадумался. — Две бутылки мало, три много. — Ватрушкин махнул рукой. — Вот что, бери пять. Не хватит, так останется. И сними свой парадный костюм. Лучше надень мою куртку. Увидят тебя жигаловские — подумают, что это Муслим Магомаев к ним прилетел.
Сравнение со знаменитым певцом мне польстило. Магомаев был тогда у всех на устах. И то, что командир предложил мне взять его куртку, сразило меня окончательно. Действительно, могут не понять: летчик, да еще молоденький, затаривается спиртным. А в куртке — другое дело: и покупателям, если они там окажутся, будет понятно, что берёт коньяк бывалый летун.
— Да я вообще-то не пью, — заметил я.
— Что так? Больной? Или подлюка? — Ватрушкин как-то по-новому оглядел меня:
— Пить не будешь, капитаном не станешь. Но насильно заставлять не буду. Как говорится: вольному воля.
— Спасённому — рай, — в тон ему поддакнул я. — А еще мой отец говорил: бешеному — поле, ходячему — путь.
— Лежачему — кнут, а бестолковому — хомут! — засмеялся Вторушкин. — Тот, который на нас надевают.
— Считается не тот, который надевают, а тот, который мы надеваем на себя сами, — буркнул я.
— Уже и заверещал, — удивленно протянул Ватрушкин. — Тебе бы надо на филолога, а ты в лётчики подался! Ну что, идёшь?
— А у меня есть выбор? Конечно, иду, даже не иду, а лечу.
— Вот и ладненько! Если увидишь там папиросы «Герцеговина Флор», возьми пару пачек. В городе их днём с огнём не сыщешь, а здесь бывают, должно быть, в память о тех временах, когда здесь в ссылке был соратник Сталина Валериан Куйбышев.
— Здесь еще бывал и Радищев, — вспомнил я. — Который написал «Путешествие из Петербурга в Москву». И проездом — Чернышевский.
Реакция командира оказалось мгновенной.
— «Что делать»? — прищурившись, спросил себя Ватрушкин. — Вот что прикажешь делать мне? Был у меня уже один такой филолог, фамилия у него была Тимохов. Любил играть в карты и филонить. Чем всё закончилось? А тем, что сам себя сослал он на Колыму. Дальше было некуда. Может статься, что и тебя могут в этот самый Чикан отправить, к Анне Евстратовне. Скоро туда откроются полеты, и там наверняка потребуется человек.
В Чикан мне совсем не хотелось. Я понял, что Ватрушкина начала раздражать моя говорливость. И не мой первый полёт он хотел обмыть, а скорее всего, снять напряжение, которое с самого утра создавал ему я. Вновь перед моими глазами встал почтовый завал, и, судя по словам командира, нам предстоял разбор полётов, который не сулил мне ничего хорошего. Чего доброго могут и сослать.
И я пошел в незнакомый мне северный посёлок.
«Надо же, он даже знает, что в этих местах бывали Куйбышев и Чернышевский, — размышлял я над словами Ватрушкина. — Да, забавный старикан. Но надо с ним ладить. Не то и вправду сошлёт в Чикан. Тогда точно — не видать левого сидения, как своих ушей».
Удивительно состояние молодости. Как волна, накатило плохое настроение и тут же откатило. Через пару минут я уже совсем с другим чувством посматривал на рубленые столетние деревянные дома, на сидящих у калиток на лавочках людей. Сколько событий произошло, и сколько разных людей проезжало мимо этих высоких гор, обступивших Лену. Жигаловские дома спокойно смотрели на очередного залетевшего в их края летуна.
Затерялась Русь в мордве и чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах…
Тихо про себя я стал напевать песню на стихи Есенина.
На улице было пусто и ветрено. Но натянутая почти на самые уши лётная фуражка крепко сидела на голове, а на ногах были не кандалы, а уже посеревшие от пыли тупоносые башмаки. И всё же мне было приятно идти по улице в лётной форме, ощущать на себе не какую-нибудь, а настоящую кожаную командирскую куртку. Появись я в ней на улице нашего детства, вот уж было бы разговоров… Но до командирской куртки мне еще пылить и пылить. А здесь даже собаки с уважением поглядывали на мою видавшую виды брезентовую, из-под самолётных формуляров сумку, которую Ватрушкин сунул в последний момент мне в руки, чтоб скрыть цель моего похода в магазин.
Много позже, вспоминая свои первые лётные дни, я приду к одному простому выводу: впечатления от второго полета никогда не сравнятся с первыми: впоследствии всё сольется в один рейс, с такими же длинными, по нескольку дней кряду, задержками в аэропортах, а взлёты и посадки без спешки и по расписанию станут таким же обыденным делом, как открывание и закрывание дверей в нашей повседневной жизни.
В магазине, который располагался около судоверфи, была обычная очередь, которая никуда не спешила. Я оглядел прилавки магазина, но ни водки, ни коньяка не увидел. Был питьевой спирт, папиросы «Казбек», «Беломорканал», «Прибой». Еще я увидел, что здесь можно купить белую нейлоновую рубашку. Они лежали нетронутой стопкой, и меня это удивило — в городе их было не найти, а здесь лежат, бери — не хочу.
Позже Ватрушкин, используя ненормативную лексику, что с ним бывало крайне редко, объяснит, что деревенские быстро расчухали: в жару рубашка липнет к телу, и даже ее, как нам тогда казалось, несомненное достоинство — взял, постирал в холодной воде, встряхнул и надел, у них вызывало смех — не рубашка, а липкая резина.
— И я с ними согласен! — подытожил командир.
Всласть надивившись, я пристроился к очереди.
«Не хватит, так останется», — с улыбкой вспомнил я, поглядывая на безыскусные этикетки. И тут на меня из очереди знакомо глянули где-то уже виданные глаза. Анна Каппель! Так и есть — она. Вот уж кого-кого, но ее я не ожидал увидеть здесь. Она кивнула, мол, подходи и становись рядом.
Брать спирт при ней было неудобно, но и деваться было некуда, и я, с постным выражением лица, сгрузил бутылки в брезент. Не объяснять же прилюдно, что выполняю ответственное задание, что у меня сегодня первый полёт, что на ее глазах мы совершили сложную посадку, за которую командиру и мне, как его помощнику, могли запросто вырезать талоны нарушения, а их в пилотском удостоверении было всего два, после чего можно смело ехать в деревню и пасти коров. Нет, объяснять я ей ничего не стал, лишь задал дежурный вопрос:
— Как ваши дела?
— Дела у прокурора, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — В районо уже никого нет, придется ждать. Вот стою, надо чего-нибудь купить перекусить.
— Да, дела хуже прокурорских, — пробормотал я и, подумав секунду, добавил: — Вот что, давай-ка пойдем в аэропорт. Поужинаем в столовой. Здесь, кроме тушёнки и рыбных консервов, и брать-то нечего.
— Как же нечего, а это? — Анна кивнула на мою авоську.
— Командир сказал, что сегодня у него юбилейный полёт. Хороший повод.
— Я уже поняла. А вот у меня настроение — хуже не придумаешь.
— А чего тут думать! — сказал я. — Все равно все вещи остались в аэропорту. Будем делать погоду.
Я уже знал, что в таких случаях не надо уговаривать — надо брать инициативу в свои руки. Сработало!
Когда мы вернулись в аэропорт, начался дождь. Крупные капли, шелестя, ударили по крайним высоким листьям, затем с шумом набежали и начали долбить заборы, крыши домов, деревянные тротуары. Мы с Анной Евстратов- ной едва успели вбежать в пустой аэровокзал, как за нами зашумело, зашуршало, точно кто-то большой и невидимый принялся жарить что-то на огромной сковороде.
В столовой уже был накрыт для нас стол. На белой скатерти стояли граненые стаканы, на тарелках были разложены красная рыба, огурцы и помидоры. И что-то еще шкворчало у поварихи на огромной сковороде.
Много лет спустя я открою для себя, что подобное внимание к лётчикам вовсе не является обычным делом, я, во всяком случае, больше почти нигде такого не встречал. Бывало, на сельхозработах и спать приходилось без простыней на матрацах, которые мы сами себе набивали соломой, и ужин готовить из тушёнки, а то и обходиться одним чаем. Здесь же, по одному только этому столу чувствовалось: в Жигалово к лётчикам относились с должным уважением: и накормят, и спать уложат, и поднимут, когда надо.
Я подошел к Ватрушкину и коротко доложил обстановку, мол, так и так, наша парашютистка попала в аварийную ситуацию. И ей нужна помощь.
— Зови её сюда, — распорядился командир. — Тем более что здесь есть представитель местной власти. — Ватрушкин кивнул на сидящего рядом начальника аэропорта Брюханова.
— Иван, выручай! — попросил Ватрушкин Брюханова. — Не в службу, а в дружбу. Девушке надо в Чикан. Она учительница, едет туда по распределению.
— Да, действительно, добраться туда непросто, дорога размыта, — почесав затылок, сказал Брюханов. — Неделю шли дожди. Автобус не ходит. Сейчас туда можно добраться только на попутном лесовозе.
— Надо что-то придумать, — сказал Ватрушкин. — Негоже бросать человека на полдороге.
— Ну, разве что отправить на вертолёте лесного патруля, — подумав немного, ответил Брюханов. — Или спустить её там на парашюте. Но это если вертолётчики согласятся. У них Чикана в задании нет.
— Так пусть нарисуют, — засмеялся Ватрушкин.
— Вы сказали про парашют, — неожиданно вставила Анна Евстратовна. — У меня есть с собой парашют.
— Парашют?! — Брюханов озадаченно посмотрел на необычную пассажирку. — Что, уже и с парашютами начали летать? Забавно! А кто мне потом передачи в тюрьму носить будет?
— У неё действительно есть в багаже парашют. — Я решил проявить свою осведомленность.
— Зачем ей в медвежьем углу парашют? — удивился Брюханов. — Всё видел: и как медведь в самолёт забирался, и как свиньи по воздуху летали… Кеша, помнишь?
— Лучше не вспоминай, — вздохнул Ватрушкин.
— Я буду проводить с ребятами военно-патриотические занятия, — сказала Анна Евстратовна.
— Всё было, — продолжал Брюханов, стараясь перевести разговор в шутку, — но чтоб прыгали медведи!
— Я не медведь, — заметила Анна Евстратовна. — Скажете прыгнуть — я прыгну!
— Представляете: учительница спускается в таёжный поселок на парашюте, — рассмеялся Брюханов. — Можно писать очерк в районную газету.
— Парашют я везу, чтоб не медведей, а детей учить, — начала объяснять Анна Евстратовна. — К тому же он старенький, списанный.
— Понял, чтобы пацаны научились с кедров прыгать, — засмеялся Брюханов. — Да вы, милая, хоть представляете, куда едете?
— Думаю, что да!
— Ну, если знаете, тогда прошу к столу, — после некоторой паузы перевел-таки разговор Брюханов. — Ночевать вам, милая, все равно придётся здесь, в пилотской гостинице, у меня есть свободная комната. Чтоб запомнили, как северяне умеют встречать и провожать гостей. А вы, собственно, уже и не гостья, а наш человек, который не забывает, что надо не только учить детей уму-разуму, но и воспитывать настоящих мужиков.
Глянув на стол, Анна исчезла из комнаты, но не прошло и минуты, как она вернулась с бутылкой вина.
— Мне сказали, что у вас сегодня юбилейный полёт. Мне эту бутылку подарили перед вылетом. Я полагала, что открою её с коллегами, когда приеду на место, но раз такой случай…
— Ну, это вы зря! Мы больше привычны к этому. — Ватрушкин постучал пальцем по бутылке со спиртом.
— Надо же, запасливая, — протянул Брюханов. — И вино хорошее, «Кокур», аж из самой Массандры. Ты, Кеша, посмотри, сколько медалей. Наверное, за каждого сбитого наповал вручали. Ты вот что, бутылочку эту спрячь. С коллегами в Чикане и откроешь. Там она будет к месту, а здесь мы спирт по широте разводим. Какая у нас — шестидесятая? Значит, воды будет всего сорок. Микитишь? И вообще, я сейчас позвоню начальнику районо, пусть они тебя у нас оставляют. Зачем тащиться в глухомань? Мы тебе и здесь жениха найдём.
— Зачем искать, у меня есть! — сказала Анна.
— Что, он тоже прыгает с парашютом? — спросил я.
— Нет, у него аэрофобия. Сейчас он работает в театре и учится на режиссёра.
— Что, это он срежиссировал вашу поездку в наши края? — поинтересовался Брюханов.
— Нет, я сама, — дрогнувшим голосом начала Анна Евстратовна. — Я уже давно самостоятельный человек и делаю то, что считаю нужным.
И, неожиданно улыбнувшись, продекламировала:
Не надо мне чужого хлеба, —
Поверьте, я должна сама
Спустить с небес кусочек неба
На эти серые дома.
— Хорошие стихи, — похвалил Брюханов. — Вот что, дочка, ты его перетаскивай сюда. И ему здесь место найдём. Интеллигенции у нас маловато, ты и сама это вскоре поймешь.
— Уже поняла.
— Да, здесь люди попроще, погрубее, — сказал Ватрушкин, поглядывая на Анну с какой-то непонятной для меня грустью. — Но они, если полюбят, уже никогда тебя не предадут. Вы сидите, а я пойду, покурю на свежем воздухе, — неожиданно сказал он и, поднявшись из-за стола, двинулся к выходу.
Я знал, что Ватрушкин одинок — жена ушла от него, а другую он не заводил, хотя, наверное, мог: у женщин он пользовался неизменным вниманием. Мой командир был худощав и крепок, настоящий мужик, про таких говорят: глянет своими небесными глазами и может взять женскую душу с одного захода.
— А знаешь, мил человек, что твой командир был когда-то и моим командиром, — повернувшись ко мне, сказал Брюханов. — И было это в славном городе Киренске. Михалыч там руководил лётным отрядом. Это еще в пятидесятых было. Хотя высшего образования у него для такой высокой должности не было, но было, как говорится, хорошее среднее соображение. Ну, и, конечно, война! Недаром тем, кто был на фронте, год за три засчитывали. И вообще он человек исторический.
— Да ну, преувеличиваете! — протянул я.
— Вот тебе и да ну, — усмехнулся Брюханов. — Знать надо, с кем сидишь рядом. Так о чем я хотел рассказать? Михалыч — человек, как бы это вам сказать, который до всего сам, своим умом доходит. Расскажу один случай. Начала к нам в аэропорты приходить новая техника. Поначалу Михалыч не очень-то доверял ей. А тут привезли обзорный радиолокатор. Установили на горе. Ватрушкин решил в деле посмотреть и пощупать возможности новой, всевидящей, как говорили и писали, техники. Как это положено, заказал облёт. Сам сел в кабину и полетел с проверкой. Взлетели, значит, и пошли по кругу. Кеша начал запрашивать у диспетчера место и положение самолёта. Тот смотрит на экран локатора и дает: высота шестьсот, удаление двенадцать. Кеша через форточку посмотрит на землю и на высотомер.
— Верно!
Диспетчер по собственной инициативе подсказал, что сейчас они выполняют третий разворот.
— Верно, — подтвердил Михалыч, прикуривая очередную папиросу. Но не успокоился и решил еще раз перепроверить:
— А что я сейчас делаю?
— Курите, Иннокентий Михайлович, курите! — последовал ответ.
— Надо же! — изумленно протянул Михалыч. — До чего дошла техника, всё видят, — тут Брюханов расхохотался. — Даже самая последняя собака в Киренске знала, что застать Ватрушкина без папиросы всё равно, что увидеть Лену без воды.
— А между порывами ветра вы ему часто разрешаете посадку? — поинтересовался я.
— На этот случай смотри раздел руководства по лётной эксплуатации, полёты в особых случаях, — нахмурившись, ответил Брюханов.
— Я смотрел, там об этом ничего не сказано.
— А ты посмотри в дополнениях, — с нажимом ответил Брюханов. — Там чёрным по белому написано: действуй по обстановке. В переводе на наш язык — соображай! — Брюханов поднял вверх указательный палец. Как хороший актёр, он выдержал паузу.
— Расскажу ещё один эпизод. Ты слушай-слушай, авось пригодится! И не лезь с дурацкими вопросами. — Было видно, что Брюханову явно не понравился мой вопрос про боковой ветер. А мне и самому он не понравился: посадка-то была на грани фола. Но начальник аэропорта не стал указывать мне моё место — чего, мол, возьмешь с сопляка.
— В пятьдесят шестом в Киренск пришло пополнение. Там был и я, молодой, честолюбивый, скажу я вам, дальше некуда. Скорее-скорее в небо, а потом на большой лайнер — такие у меня были мысли тогда. Но по всем документам, прежде чем возить пассажиров, нам надо было налетать сто часов с грузом. А груза на складе нет. Сидим, как в доме отдыха, в карты играем, денег нет, что дальше будет — неизвестно.
Вот и начали с ближайших озер потаскивать домашних уток. Жители деревни нажаловались Ватрушкину, мол, нехорошо поступают ваши летуны.
И Михалыч неожиданно нагрянул к нам в гости. Мы сидим за столом, а на печи — ведро с утятиной, а на столе — графин с гамырой. Увидав высокое начальство, вскочили, вытянулись во фрунт.
— Включите радио. Нет, вы включите и послушайте! — загремел Ватрушкин. — Такая сложная международная обстановка, а вы здесь пьянствуете! Вы же все офицеры запаса. Первый выстрел — и в бой. А вы тут — в запой!
— Так полётов нет, и денег тю-тю! — начали оправдываться мы. — Где же мы налетаем эти злосчастные сто часов, если на складе нет груза. Тут не только запьешь — от безделья подохнешь!
Тут взгляд Ватрушкина наткнулся на лежащего в кровати летчика, фамилия у него была Тимохов. Тот, как лежал, так и продолжает лежать, не обращая внимания на визит высокого гостя.
— Послушай, дружок, ты это чего? — повысил голос Ватрушкин. — А если бы сейчас война?
— Иннокентий Михайлович, — приоткрыв один глаз, ответил Тимохов, — если война, то я бы тогда надел каску и спал в ней.
— Ну, спи-спи, мы это учтём, когда будем составлять наряд, — мрачно сказал Ватрушкин и, взяв со стола графин, понюхал, сморщился и вылил гамыру в помойное ведро.
— И вам не стыдно пить такую дрянь! — вновь загремел он. — Вы же лётчики! На вас люди равняются.
Мы стояли, словно остолбенели, — это надо же так упасть в глазах командира.
— Так по Сеньке и шапка, — философски заметил Тимохов. — Употребляем то, что доступно. Мы же с маршалом Тито дружбу не водили.
И тут с Ватрушкиным что-то произошло: он подобрал живот, достал из кармана четверную, и уже другим, командирским голосом обратился к Тимохову.
— За то, что вспомнил про Тито, — спасибо! Хватит, дружок, койку давить, слетай в магазин и купи коньяку.
Тут Михалыч сделал паузу и произнес: — Одну мало, две много…
— Возьми три. Не хватит, так останется! — воскликнул я.
— Молодец, выучил, — похвалил Брюханов. — Оглядел, значит, нас Михалыч, и уже другим, властным голосом рявкнул:
— Слушайте мой приказ! Ещё раз местные пожалуются — отберу пилотские права и пешком отправлю в Иркутск. А с завтрашнего дня будете возить свиней. Думаю, справитесь. Свиньи — не люди, о них в воздушном кодексе ничего не сказано. Зарегистрируем как груз. Вот вам и работа, вот вам и грузовые полёты.
— И начали мы развозить свиней по колхозам и леспромхозам. И Иннокентий Михайлович сам сел возить свиней. И подложили эти самые свиньи свинью Михалычу, — вздохнув, подытожил Брюханов. — Этот филолог, Тимохов, поленился как следует связать свиней перед взлётом. А они в воздухе взбесились, порвали веревки и начали носиться по самолёту. А в каждом хряке пудов по десять было. Самолёт то на дыбы, то в пике. Хорошо, Кеша приказал своему горе-помощнику открыть дверь. Ну, боровки, естественно, без парашютов, — тут Брюханов скосил глаза на Анну Евстратовну, — как из стайки, сиганули в бездну.
— Это же библейский сюжет! — воскликнула Анна Евстратовна. — Как только бесы вселились в стадо, свиньи взбесились, завизжали и бросились с высоты в воду.
— Ты, дочка, права, визг стоял на всю округу, — подтвердил Брюханов. — Потом начались разборки, стали проверять, кто разрешил возить и почему. На одной из таких партийных разборок кто-то возьми да и заяви:
— Ну, и что, что фронтовик! У него не самолёт, а сарай, из которого свиньи прыгают, куда хотят.
— И имя вам — легион, — ответил Михалыч партийцу.

А у того глаза из орбит, начал стращать, что сделает всё, чтобы лишить Михалыча пилотского удостоверения. Михалыч не стерпел, взял и врезал «другану» в лоб. Его судили, дали условный срок.
— Жалко, — неожиданно всхлипнула Анна Евстратовна.
— У них выхода не было.
— У свиней?
— Да я не о том! Жалко Иннокентия Михайловича.
— Я же говорил, он мужик с характером. Таким всегда тяжело.
— А вы еще хотели про медведя рассказать. Который в самолёт залез, — неожиданно вспомнила учительница.
— Там все очень просто, — махнул рукой Брюханов. — Охотники убили медведицу. А у нее осталось двое медвежат. Одного они предложили нам, мол, отвезите в зверинец. А мы тогда работали на аэрофотосъёмке. Поселили медвежонка у себя. Особенно мишка полюбил сгущенку. Мы улетим — он ждёт нас в пилотской. Но как только заслышит звук мотора, бежит встречать самолёт. Михалыч ему из своих запасов обязательно баночку сгущёнки отдавал.

А потом мы улетели в город, и медвежонок ушёл в тайгу. Года через два мы прилетели и остались на ночёвку. Утром прибегает техник, глаза по плошке. Кричит: медведь забрался в кабину самолёта. Ну, мы с ружьями на стоянку. Точно — медведь! Выпрыгнул из кабины и к Михалычу. Тот самый, но повзрослевший. Пришел по старой памяти за сгущёнкой. Мы его хотели взять в полёт и опустить в тайгу на парашюте. Шучу! У мишки бы разрыв сердца мог случиться. Скажу честно, и лётчики-то не слишком жалуют тряпку. Ну, извини — парашют. А тем более медведи. С ними мы летали, только когда сбрасывали парашютистов, в других случаях — никогда. У нас говорили: лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом. Сколько лет уже прошло, но я с содроганием вспоминаю свой первый прыжок.
Прыгали мы на По-2. Был такой самолет. Левая рука пилота вверх — приготовиться! Сердце — как колокол на пожаре! Переносишь ногу через борт, спускаешься на крыло и по команде «Пошёл!», под углом сорок пять градусов отталкиваешься и летишь в бездну. Эти несколько секунд остаются с тобой навсегда. А тут проделать это сто раз! — умереть, да и только! Позвольте поцеловать вашу ручку.
Но Анна Евстратовна не позволила, она смущенно хлопала глазами, беспомощно оглядываясь на меня. Я решил прийти ей на помощь.
— Сегодняшняя посадка мне тоже запомнится надолго, — громко сказал я.
— Сильно болтало, — подтвердила Анна.
— А вот мы здесь болтаем уже больше часа, — глянув на часы, заторопился Брюханов.
— И все же расскажите, — попросила Анна Евстратовна.
— Хорошо, расскажу. — Брюханов хитровато улыбнулся. — Было это в том же Киренске. Однажды захожу на посадку, а на полосе туман. Видимость — ноль. — Брюханов сделал паузу. — Первый раз я промахнулся. Захожу второй раз. А у меня перед глазами горят красные лампочки критического остатка топлива. Я напряг всю свою волю, все умение и посадил самолёт. Иннокентий Михайлович прибежал к самолёту, чтобы поблагодарить меня за успешную и героическую посадку. Протягивает мне для рукопожатия руку, — Брюханов поднял над столом свою руку-лопату, — а я её из-за тумана не вижу.
Анна оценила очередную байку Брюханова, долго смеялась.
— Вот на этой весёлой ноте и закончим. Завтра рано вставать. Ты не огорчайся, отправим тебя, — сказал он Анне Евстратовне. — А к осени, думаю, откроем рейсы в Сурово, Коношаново, Чикан и Чингилей.
Утром в пилотской раздался стук. Приехал директор зверосовхоза — крепкий молодой парень с широким восточным лицом. «Скорее всего, из эвенков или якутов», — подумал я. На нем, вопреки утверждениям Ват- рушкина о нелюбви местных к новомодным новинкам, была белая нейлоновая рубашка и черный костюм. «Должно быть, чтобы все видели — начальник!» — усмехнулся я про себя и даже подумал, что он выглядит, как жених, который приехал за невестой, чтобы отвести ее в загс.
— Ну, кого здесь надо забрать? — громко спросил он, увидев Брюханова. — А то мне позвонили из районо, сказали: «Петр Митрич, встреть учительницу».
— Запоздал маленько, мы решили её оставить у себя, — пошутил Ват- рушкин.
— Раз вам она так понравилась, значит, и нам подойдет, — легко и просто, в тон Ватрушкину, рассмеялся директор. — У вас стюардесс, должно быть, и без неё хватает.
— Такой нет, — сказал Ватрушкин.
— Не всё вам, что-то и нам достанется.
Переговорив ещё о чем-то с Ватрушкиным, Петр Дмитриевич погрузил в машину вещи Анны Евстратовны, и она, помахав нам рукой, села в кабину.
— Если что, ты обращайся, — сказал ей Брюханов. — Меня в Жигалово все знают. Даже собаки. Надо будет в город, всегда отправим.
— А ты взял у неё адрес? — поинтересовался у меня Ватрушкин, когда машина отъехала от аэропорта.
— А то как же! Северный полюс. Деревня Чикан, — отшутился я.
Запоздало, но всё же я успел уловить в его голосе неизвестные мне ранее нотки, что дало мне повод предположить: моему командиру Анна Евстратовна пришлась по душе. Но чем?
Через кабину нашего самолёта потом пройдут сотни людей. Войдут, посидят пару часов и выйдут. А вот Анна Евстратовна запомнилась. И дело даже не в первом моём полёте.
Постепенно я начал привыкать к своей работе: чтобы экономить время, приходилось самому разгружать и загружать самолёт, отчитываться за почту и посылки, питаться неизвестно где и чем придётся, всё на ходу, всё на лету. И большой летчицкой зарплаты, как это считали мои знакомые, тоже не было, хорошо, что выдали добротную лётную спецодежду, она выручала во многих случаях, не надо было тратиться на нейлоновые рубашки и костюмы.
Но такие мелочи и неудобства совсем не огорчали меня, ведь главное — я летчик! На моё место хотели бы попасть многие, но именно я вытянул счастливый билет.
Особенно мне нравились полеты ранним утром, когда земля ещё спала, и самолёт шёл без единого толчка, как по хорошо укатанному асфальту, нравилось, что, пребывая в хорошем расположении духа, командир продолжал читать мне лекции.
— Всю работу в полёте выполняет мотор, — уже набрав высоту и прикуривая очередную папиросу, не спеша начинал Ватрушкин.
«Очень тонкое замечание», — думал я про себя. Но уже не высовывался, а спокойно продолжал держать штурвал.
— Не ты крутишь коленвал, а это он, трудяга, вращает винт, тянет нас вперед, — продолжал Ватрушкин свою мысль. — А те твои движения и навыки в пилотировании — поднять самолёт от земли, отвернуть, удержать на курсе, где — убавить, а где — прибавить мощность мотору, — всему этому тебя научили ещё в училище. Здесь перед тобой другая задача: безопасно долететь, посадить, выгрузить и загрузить самолёт. Существует еще одна работа, невидимая и неслышная, — Ватрушкин стучал пальцем по лбу, — она происходит вот здесь, когда ты свой предстоящий полет должен увидеть, продумать, выстроить и предусмотреть все кочки, все овраги, всю дорогу, то есть учесть погоду, ветер, облачность, размеры площадок, на которые придётся садиться, знать необходимое радиообеспечение, которым оснащена трасса. И даже знать, где будешь обедать и ужинать. Научишься брать с собой термос, бутерброды — на голодный желудок много не налетаешь. Да и гастрит заработаешь. Хорошо, когда пассажирский рейс, — они вошли и вышли, а если рейс почтовый или грузовой, и светлого времени в обрез, то ты уже не только лётчик, но и грузчик, и кладовщик одновременно. — Тут я согласно кивал головой: приходилось иногда за минуты перебросить тонну груза.
— Кроме того, второй пилот несёт ответственность за сохранность груза, и именно тебя начнут таскать по инстанциям, если что потеряется, — сквозь шум мотора долетал до меня голос командира. Почему-то мне казалось, что этими словами он напоминает мне про случай на складе, когда я опрокинул телегу с почтой. Но тогда Ватрушкин сделал всё, чтобы меня не наказали, и я на собственном опыта уяснил, что инициатива — наказуема.
— Эти ещё не всё: на оперативных точках порой приходится самому заправлять самолёт, а тут надо держать ухо востро, что за бензин в бочках, нет ли в нем воды и грязи, — продолжал наставлять меня Ватрушкин. — И если остаешься на ночёвку, то приходится быть и охранником. Вот такая наша работа. Но кто это знает? Тебя встречают и провожают по одёжке и ценят за то, что ты — лётчик, король неба. Свою работу надо делать с твёрдостью и надёжностью — без крика и суеты. Принял командирское решение взлетать — взлетай! Запомни: суетливый лётчик вызывает раздражение, а бегущий — панику. Микитишь?
Я кивал головой — микичу! Ватрушкин говорил обыденные вещи, и мне казалось, что делает он всё это, чтобы заполнить паузу между взлётом и посадкой.
— Вон видишь поляну, там можно сесть в случае отказа двигателя, — говорил он, ткнув пальцем в стекло, — на эту площадку лучше садиться в горку, а то не дай Бог откажут тормоза, тогда точно будешь в овраге. Без нужды не лазь в облака, в них и летом можешь поймать лёд на крылья.
А при заходе на посадку Ватрушкин учил меня правильно строить расчёт на посадку в случае отказа двигателя, бывало, показывал полёт на минимальной скорости с выпущенными предкрылками, когда нас внизу, на дороге, точно стоячих обгоняли машины. Еще были советы, как определить на земле ветер, когда сам подбираешь для посадки площадку. Иногда для интереса он показывал посадку, после которой самолёт останавливался почти без пробега. С юморком Ватрушкин рассказывал, как еще на По-2 садился на баржу, когда надо было, спасая людей, срочно доставить на посудину врача. Мне нравилось, как Ватрушкин закуривает в кабине, втыкает коробок между тумблерами, и, откинувшись, смотрит куда-то, в одному ему известную точку. Запах папирос внушал мне неведомое доселе спокойствие и создавал ощущение уюта, если такое вообще возможно в маленькой и тесной кабине.
Я долго не мог привыкнуть, что буквально через час после вылета из Иркутска, с его шумом и суетой, попадаешь в совершенно иную, тихую и размеренную жизнь далекого таёжного поселка. У меня было такое чувство, будто самолёт — как машина времени, откручивает дни и годы в ту или иную сторону. Бывало, сядешь, например, в Караме, а там все как сто или двести лет назад; тут же, неподалеку от посадочной площадки, пасутся коровы; едва откроешь дверь самолёта, как в кабину врывается запах свежескошенной травы, и тебя начинают атаковать оводы. Обычно первыми самолёт встречали местные лайки, а неподалеку уже толпились встречающие и провожающие. Они с интересом смотрели на тех, кто прилетел, что привез, чтобы через несколько минут обсуждать эту новость всем поселком. Северяне привыкли жить оседло, и любая поездка или новый человек вызывали у них живейший интерес.
На этих маленьких таёжных аэродромах к лётчикам было свое, особое отношение. А старых пилотяг, как иногда они сами над собой подшучивали, летающих сараев, знали наперечёт. Про Ватрушкина и говорить было нечего, он уже давно был здесь своим человеком. Но и для меня, вчерашнего курсанта, нашлась своя ниша. Поскольку дело с посылками и иными передачами приходилось иметь мне, то и обратная связь осуществлялась через меня. Бывало, передашь из города посылку, тебе суют полмешка рыбы или кусок сохатины. Ты начинаешь шарить по карманам, чтобы рассчитаться, а тебе говорят: да чего ты суетишься, у нас этого добра полно, нам будет приятно, если ты возьмёшь и угостишь кого-то.
В одном из полётов я наконец-то познакомился с Колей Мамушкиным, проступок которого позволил мне занять то место, которое было отведено ему. Мы прилетели по санзаданию в Чингилей и, поскольку врач уехал к больному, остались ждать, пока он проведёт консультацию и поставит диагноз.
Отбывающий на площадке ссылку бывший второй пилот Ватрушкина Коля Мамушкин, невысокого роста, с уже наметившимся животиком паренёк, поздоровался с Ватрушкиным, затем подошёл ко мне.
— Давай знакомиться, — сказал он, протягивая руку. — Мы с тобой вроде бы как из одного экипажа. — Мамушкин кивнул в строну Ватрушкина.
Подъехал «газик», и на нём вместе с врачом Ватрушкин уехал в деревню. Мамушкин сказал, чтобы я запер самолёт, затем подозвал кого-то из местных ребят и распорядился, чтобы они его охраняли. Он повёл меня к ближайшему ручью, где, по его выражению, смородина висела вёдрами. И это была правдой, я быстро наполнил ягодой лётную фуражку. Но это было ещё не всё. Стараясь загладить свою вину перед Ватрушкиным, Коля приготовил нам по куску сохатины. По его словам, он сдружился здесь с директором зверосовхоза, и тот в свободное время берёт его с собой на охоту. И совсем недавно они добыли сохатого. Поскольку холодильника у него не было, Коля решил угостить мясом нас. Когда я попробовал приподнять мешок с подношением, то едва оторвал его от земли.
Уже в обратном полете в город я отсыпал ягод врачу, и тот сказал, что такой вкусной и запашистой смородины не пробовал никогда в жизни.
Натуральный обмен между лётчиками и местными жителями был поставлен на широкую ногу. Осенью из северных деревень и поселков везли ягоды и орехи, а из города лётчики доставляли охотничий припас, сети, запчасти для лодок и катеров. Бывало, что заказывали лекарства, но, по рассказам Ватрушкина, деревенские болели меньше, чем городские.
— Да им и некогда, смотри, сколько у них работы! — похохатывал он.
Но и в этот, я бы сказал, обособленный мир проникала обратная сторона цивилизации. На рыбе сильно не разживёшься, а вот на пушнине — вполне. Собирая смородину, я попросил Колю Мамушкина достать мне ондатровых шкурок на шапку, и тот, нахмурившись, поведал, что сделать это будет непросто, поскольку начальник местных воздушных линий Ефим Жабин обложил площадки и малые таёжные аэродромы своеобразным ясаком. Вот и приходится ему, чтобы сократить срок наказания и получить положительную характеристику, выменивать у охотников за спирт пушнину и передавать её Ефиму.
«Вот это да! — подумал я. — Всё, как и сотню лет назад. Есть хозяин, есть и приказчик. Только зовутся они иначе».
— Ты возьми выходные и прилетай ко мне, — сказал Мамушкин. — Есть у меня человек, через него, думаю, твою просьбу и выполним. Заодно поохотимся и ягод пособираем. Будет тебе и на шапку, и чем друзей угостить. Билет брать не надо, свои же и привезут, и отвезут.
Я так и сделал: взял выходные и прилетел в Чингилей. Свою вынужденную ссылку Мамушкин коротал в стареньком, ещё, наверное, оставшемся со времен Радищева, домике. Видимо, зверосовхоз не рассчитывал на длительное пребывание в этих краях авиации, насмотрелись на разных перелётных птиц и решили, что работа начальника площадки — сезонная, чего тратиться, пусть сам обустраивает свое житьё-бытьё. И Коля решил не напрягаться: сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Всю обстановку в доме, где обитал Мамушкин, можно было пересчитать по пальцам: стол, кровать, пара табуреток, умывальник, помойное ведро. На вбитых в стену гвоздях висели куртка и дождевик, в углу — ружьё и рыболовные снасти.
Только теперь я понял, какой участи избежал. Вся работа Мамушкина заключалась в том, чтобы вовремя перед посадкой самолёта разогнать с посадочной полосы коров и в амбарной книге зафиксировать время посадки, номер борта и фамилию командира.
— С такими обязанностями справился бы не только Радищев, но и отбывавший срок в этих местах Троцкий, — пошутил Коля, заваривая чай. — Тот хоть газеты читал, а у меня времени и на это нет. Но здесь, в школьной библиотеке, попался мне большой энциклопедический словарь. Нашел в нем троих Бабушкиных. Один — ученый, другой — революционер. Третий — полярный лётчик. И ни одного Мамушкина!
— В следующем издании ты будешь первым, — пошутил я.
— Ты намекаешь, что эту посадочную площадку моим именем назовут, — улыбнулся Мамушкин. — Скажут: первым, кто отбывал здесь ссылку, был Коля Мамушкин. Что я здесь открыл? Большого ума не надо, чтобы понять, что самолёт — как раз для таких медвежьих углов. Падая с неба на эти площадки, мы на минуту касались земли и поднимались обратно. Для деревенских же мы, вернее, вы, — Коля кивнул в мою сторону, — были и остаетесь небожителями. Они считают, что для лётчиков открыты иные дали. Лётчики могут войти сюда и тут же выйти, выпорхнуть на волю, а вот таким, как я, приходится перемалывать один на один и зимнюю скуку, и дожди, и жару, которая в иные дни бывает, как в Сахаре. Впрочем, это мой взгляд, мои представления об этих забытых Богом местах.
Нарубив охотничьим ножом огурцы и открыв банку с тушёнкой, Коля откуда-то из-под стола достал бутылку спирта, разлил по стаканам.
— Ну, что, за твой приезд, — сказал он.
— Да я, в общем-то, не пью.
— Что, больной? — знакомо спросил меня Мамушкин. — Ты это брось! Пить не будешь — командиром не станешь. А я себе не отказываю. Можно сказать — спасаюсь. Тут от скуки подохнуть можно. Если бы не тайга да не рыбалка, ушёл бы в партизаны. А вон и мой друган. — Коля выпил спирт и пошёл к двери, отзываясь на шум подъезжающего мотоцикла. Я вышел следом и увидел знакомого мне эвенка, который приезжал в Жигалово за Анной Евстратовной.
— О-о-о! Знакомые лица. Митрич, — сказал он, протягивая мне руку. Ещё раз оглядев меня с головы до ног, он вернулся к мотоциклу и, порывшись, достал резиновые сапоги.
— Возьми. В такой обутке, как твоя, можно только по городским асфальтам ходить. А здесь тайга. Возьми, переобуйся. — Он снова вернулся к мотоциклу и принёс мне толстые вязаные шерстяные носки.
— Надень, не то ноги собьёшь. И вместо полётов пойдёшь к доктору.
Попив чаю, мы кое-как уселись в его трёхколёсный мотоцикл «Урал» и по дороге, которую и дорогой-то назвать было сложно — пробитая и раздолбанная лесовозами, она напоминала залитые стоячей водой бесконечные грязные канавы, — разрывая рёвом мотора деревенскую тишину, то и дело подпрыгивая на ухабах, мы поплелись за околицу.
Через час Митрич привез нас на старую гарь. То, что здесь когда-то бушевал пожар, выдавали всё ещё торчащие во все стороны обугленные сухостоины с давними следами огня и многочисленные, уже заросшие мхом валежины.
— Вот здесь и остановимся, — сказал Митрич.
Точно с лесного оленя, он ловко соскочил с мотоцикла и принялся выгружать вёдра, кастрюли, котелки, обустраивая табор. Чтобы не казаться гастролирующим туристом, я начал таскать к мотоциклу сухие ветки, собирая их вокруг нашей стоянки.
— Ты побереги силы, — сказал Митрич. — Я сейчас свалю вон ту сосну, и нам дров хватит на всю ночь.
Он достал из мешка бензопилу и ловко подпилил стоящую неподалеку сухостоину. Когда она, ухнув, упала на землю, он за несколько минут распластал её на мелкие чурки. Пока Митрич налаживал костёр, мы с Мамушкиным пошли по ягоды. Их оказалось столько, что я, оглядев ближние полянки, замер в недоумении. Покрытые мхом кочки была красны от брусники. Её кустики тут и там перемежались целыми полянками черники.
— Я тебе говорил, вёдрами стоит! — хвастался Мамушкин, доставая металлический, сработанный местным умельцем совок для сбора ягод.
— Комбайн, — я решил не отставать и продемонстрировал привычное для деревенского слуха название совка.
— Микитишь! — со знакомыми интонациями похвалил меня Мамушкин.
— Давайте мужики, работайте, — крикнул нам Митрич. — Как у нас говорят: ешь-потей, работай — зябни, на ходу маленько спи. А мне ехать надо. Начальство должно из района пожаловать. А к вечеру я к вам вернусь, только не заблудитесь.
— Да с ориентировкой у нас полный порядок, — засмеялся Мамушкин. — Или мы не лётчики!
— Лётчики, но не таёжники, — улыбнулся Митрич. — Это в небе вам всё знакомо, а здесь профессор я.
Митрич развёл-таки костёр, вскипятил нам чай в котелке и укатил обратно в Чингилей.
К вечеру мы набили ягодой всё, что взяли с собой: картонные коробки, вёдра и кастрюли. Когда солнце опустилось к ближайшей горе, усталый и довольный удачно сложившимся днём, я от избытка чувств завалился на спину в мягкий мох и стал засмотрелся в вечернее безоблачное небо, которое сизыми заплатками проглядывало сквозь выросшие после пожара берёзки. Отсюда, с земли, небо казалось далёким, немым и каким-то незначительным, я бы даже сказал — крохотным. И нельзя было даже подумать, что оттуда, сверху, тайга и всё, что её населяет, все эти запахи, шорохи, перестук дятлов, посвист пролетающих птиц, шевеление листвы существуют как бы само по себе, без видимой связи с тем, что стояло над всем этим едва слышным человеческим ухом оркестром. Там же, вверху, в прозрачности и необъятности, тоже шла своя невидимая взгляду жизнь, текли воздушные реки, вздымались ввысь многокилометровые вихри, зарождались и уходили за горизонт облака и менялись краски. Я знал, что были там свои горы и распадки, это хорошо ощущалось на самолёте, который, бывало, без видимых причин бросало из стороны в сторону, а в иной раз разбушевавшаяся стихия готова была скинуть его, как надоедливую железную птичку, в тайгу, прямо на эти вот лиственные колья.
Откуда-то из-за ближайшей горы неожиданно появился коршун. Перед сном он, должно быть, делал контрольный облёт своих лесных угодий, и сразу же небо приобрело свою, казалось бы, потерянную связь с окружающим земным миром. Я знал, он хорошо видит нас, возможно, стережёт, и, пока я следил за его полетом, мне стало тепло от одной мысли, что неслышно скользящий над нашими головами лесной собрат, пока мы отдыхаем, делает за нас нашу воздушную работу.
— Завтра надо попросить Митрича заехать в Чикан купить сигарет. В Чингилее одна махорка осталась, — сказал Мамушкин.
И я неожиданно для себя припомнил, что в чиканской школе работает знакомая учительница — Анна Евстратовна.
— Так она теперь не в Чикане, она у нас в Чингилее преподаёт, — сообщил Мамушкин. — Здесь такая штука приключилась. Накануне учебного года уехал в город в больницу учитель. Хотели возить ребят в Жигалово, но Анна Евстратовна попросилась приехать в Чингилей. Других не нашлось — здесь все учителя приросли к своим домам. И она поехала. Теперь здесь всё на ней. Скажу тебе, отличная учительница! Ягодка! Школьный театр организовала, и они уже к эвенкам съездили. Боюсь только, что долго здесь не удержится, заберут в район или в город. Охотников, шоферов в деревне полно, а вот такая — одна. Кстати, Митрич у неё вроде сторожа. Никого к ней на пушечный выстрел не подпускает. Все уже знают — втрескался. Но держит дистанцию. Когда Аннушка, так её теперь все у нас кличут, сюда приехала, то её здесь не ждали. Мужики все в тайге, а у женщин своих хлопот полно. Стала она печь растапливать, а дрова сырые, не разгораются. И тут мимо Митрич ехал. Увидел, что она с сырыми чурками возится, завёл трактор и приволок из леса пару сушин, распилил, наколол. С тех пор и она к нему питает особые чувства. Но дистанцию держит. У неё, говорят, городской ухажёр есть.
Я слушал Мамушкина, и в душе у меня бродили какие-то непонятные, но ревнивые чувства. Конечно же, летая, я вспоминал Анну Евстратовну, как-никак она была моей первой пассажиркой. Из рассказа Мамушкина выходило, что мы из рук в руки передали ее на попечение Митричу. А уж он-то, я это уже успел оценить, умел быть заботливым и, судя по всему, надёжным человеком. Вот с тем, городским, о котором она рассказала нам еще в Жигалово, я её рядом не мог представить, а вот к этому тунгусу Митричу — приревновал.
Митрич приехал поздно, привёз рыбы — несколько крупных ленков, и мы сварили уху. Кроме ленков, Митрич привёз спальные мешки, и я, вспомнив, как он назвал себя лесным профессором, согласился: Митрич не только заботливый, но и предусмотрительный человек. По мнению Ватрушкина, это было главным качеством, которое отличает настоящего пилота от летуна. Действительно, с таким не пропадешь. В разговоре у вечернего костра Митрич признался нам, что хотел стать лётчиком и даже ездил поступать в училище, но не прошел медкомиссию. И в конце сказал одну фразу, которая, как вспышка, совсем по-новому осветила всю мою нынешнюю работу.
Для того чтобы любить небо, не обязательно быть лётчиком. И вообще, умные люди говорят: то, что сделано с любовью, и стоит долго, и помнится всю жизнь.
После таких слов говорить больше не хотелось. Я забрался в спальник и, размышляя над словами Митрича, уснул сном хорошо поработавшего человека.
А утром, загрузив мотоцикл коробками и вёдрами с ягодой, Митрич повёз нас в Чингилей. Когда въехали в село, я попросил его подвезти нас к школе.
— Мне нужно повидаться со старой знакомой, — сказал я.
— С Анной Евстратовной, — догадался Митрич. — Это мы запросто. Но у неё сейчас уроки. Может, попозже?
— Ничего, мы на минутку.
Митрич подъехал к деревянной, срубленной из вековых лесин школе и попросил бегающих во дворе девочек позвать Анну Евстратовну.
— Скажите, что к ней гости из города.
Девочки быстрыми глазами оглядели меня, прыснули и скрылись в школе.
Анна Евстратовна вышла в строгом сером костюме и в модных туфлях, что сразу бросилось мне в глаза, потому что ходить в них по улице после прошедших дождей было бы безумием. Анна Евстратовна обрадовалась, сказала, что не ожидала меня увидеть, и когда я начал мямлить, что заехал на минутку, она тут же настояла, чтобы я обязательно подождал: она сейчас закончит урок, и мы должны будем у неё пообедать.
Жила она здесь же, при школе, в пристройке, которая, судя по свежим бревнам, была сделана совсем недавно.
— А вы зайдите, там не заперто, я сейчас подойду, — сказала она.
И мы зашли, но только с Мамушкиным. Митрич, сославшись на срочную работу, уехал по своим делам. Конечно, это было совсем не то же, что жилье Мамушкина. У Анны Евстратовны всё было прибрано, чисто, крашеный пол вымыт до блеска, на столе — стопки тетрадей, на этажерке и полках — книги, очень много книг. И свежий, пропитанный духом смолы и хвои воздух.
Я еще раз осмотрел комнату. Ну, и где же здесь можно было разложить парашют? Его можно было показывать в разобранном виде только на школьном дворе или на аэродроме.
Коля нашёл у Анны Евстратовны кастрюлю, наполнил её ягодой, затем сходил в огород и накопал картошки.
— Ну, чего расселся, давай, чистить будем! — скомандовал он.
И мы начали чистить. Искоса я оглядывал комнату — так вот куда занесла её учительская судьба! Через окно в комнату заглядывал кусочек неба, а далее был виден край деревенского поля и, насколько хватало глаз, стояла тайга. А на столе небольшие часы отсчитывали свое и наше время. Оно неумолимо летело с такой скоростью, что даже и на самолёте не угонишься.
Действительно, Анна Евстратовна пришла скоро, не вошла, а влетела, увидев, что мы заняты домашней работой, похвалила и, быстро переодевшись, придала нашим действиям ту осмысленность и законченность, которую может придать только женщина.
Между делом она рассказывала, как её здесь встретили, как быстро, за пару дней соорудили вот эту пристройку.
— Побелили, покрасили, принесли новые табуретки и даже где-то разыскали барское кресло, перетянули его бараньей шкурой, а на пол под ноги бросили медвежью шкуру.
Меня так и подмывало спросить про сырые чурки, но она и сама рассказала, как она боролась с вязкой, сырой древесиной, пытаясь растопить печь.
На это самое кресло она усадила меня, чтобы я чувствовал себя, как в кабине самолёта. За столом, в свою очередь, я предложил ей помощь, если понадобится что-то передать в город; отвезти, привезти посылку или её в Иркутск. Она с улыбкой глянула на меня и сказала, что хотела бы передать в город работы учеников на конкурс.
— Передам! — бодрым голосом заверил я.
Она достала папочку с рисунками и ещё какой-то пакет.
— А это вам с Иннокентием Михайловичем, — сказала она.
— Что это? — спросил я.
— Ондатровые шкурки, двенадцать штук, как раз на две шапки.
— Да вы что, я не могу и не буду брать такие подарки, — нахмурившись, сказал я.
— Вы меня обидите, — ответила Анна. — Я была вам так благодарна!
— Бери, бери! — сказал Мамушкин. — Охотники здесь сдают их по пятьдесят копеек за штуку.
— Я их не покупала, мне принесли, сказали, сшейте себе шапку. Здесь такие холода!
— Они правы, здесь действительно холодно, — заметил я.
Мысли мои пошли зигзагами: взять — подумает, что лётчики все такие, берут и даже спасибо не говорят. Откажусь — обидится. Ещё в детстве мама меня учила: не бери чужого. Взял — потерял. Отдал — приобрел. И тут до меня дошло. Должно быть, шкурки ей принес Митрич.
— Я не люблю меховые шапки. Мне нравятся платки, — сказала Анна.
— Нет, — твёрдым голосом сказал я. — Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Мне Коля, — я кивнул на Мамушкина, — уже достал. — Мамушкин недоуменно глянул на меня, но я посмотрел на него долгим взглядом, и он прикрыл уже раскрытый было от возмущения рот.
На обратном пути к его обители Мамушкин отругал меня, затем сказал, что к ноябрьским праздникам из тайги начнут выходить охотники и тогда он точно пришлёт мне шкурки. За сданную пушнину государство платило охотникам гроши, и она уходила на сторону; в основном, передавали или продавали в город; одним надо было устроить своих родственников в больницу, другим нужен был мотоцикл или лодочный мотор.
— А ты зря не взял, обидел девушку, — сказал Мамушкин. — Хочешь, я тебе соболей на шапку достану? Ты мне пива, а я тебе соболей. Идёт?
— Я же не Чернышевский, — засмеялся я. — Это, говорят, он любил прохаживаться по Вилюйску в собольей шапке. Мне бы что попроще.
Была в нашей работе особая статья. О ней говорили мало, а если и говорили, то мимоходом. Те дрожжи, которые вез радист Ватрушкина, не были чем-то особенным или из ряда вон выходящим. Много чего приходилось возить лётчикам. Так повелось, где-то чего-то много, а где-то чего-то недостает.
Утром перед вылетом, у входа в стартовый здравпункт, нас поджидали разного рода ходоки. Одни просили привезти с Байкала рыбу, другие — орехи, ягоды, третьи — тушёнку, гречку, спирт, и все говорили, что просим-де не за себя и не для себя. Выяснялось, что у одного намечалась свадьба, у другого — именины или крестины, третьему надо было что-то нести в больницу. Поводов нагрузить нас заказами было множество. Конечно, всё то, что было в их просьбах, можно было найти на рынке, но там было дорого, а Ватрушкин, бывало, совсем не брал с них денег.
— Как пришло, так и ушло, — говорил он. — Богаче уже не стану, а бедным никогда не буду.
Чаще всего всю эту непредвиденную, левую работу он поручал мне, и я, не нарушая сложившихся традиций, брал передачи, посылки и разносил их по разным адресам. Хочешь стать командиром — терпи! — говорил я самому себе. Но история с заказом Мамушкина имела продолжение. Однажды Ватрушкин, выслушав очередной, оформленный в привычные причитания, заказ, неожиданно для меня протянул ходоку десятку.
— Не в службу, а в дружбу, — с улыбкой сказал он. — Пока мы летаем, ты съезди на пивзавод и купи пива.
— Ты, чо, Михалыч, охренел! — пожевав от удивления губами, буркнул тот. — Туда надо ехать на двух автобусах. Да и времени у меня нет.
— Но сюда-то приехать нашёл время, — сухо заметил Ватрушкин. — Вот что, дорогой, у нас, кроме ваших заказов, своих дел полно. А вот он, — тут Ватрушкин показал на меня глазами, — каждый день ездит на работу на двух автобусах. Утром сюда, а вечером — обратно, на дорогу полдня. И ничего — ездит. Бывает, и пиво возит. А ещё ваши заказы развозит.
— Ну, и лётчики пошли, шаг лишний боитесь сделать, — надулся заказчик.
— Ты это мне или себе? — поинтересовался Ватрушкин и уже другим, непривычным для меня голосом, добавил: — Вали отсюда и чтоб я тебя больше здесь не видел!
На моей памяти это был единственный случай. Обычно Ватрушкин никому не отказывал. Не только брал и привозил, но частенько на своей «Победе» развозил гостинцы и заказы по домам. А иногда и меня подвозил домой: из аэропорта добираться до Жилкино, где я жил в ту пору, мне действительно приходилось на двух автобусах.
Через некоторое время моя новенькая форма потеряла былой лоск, как бы притёрлась к самолёту, ко всему, что окружало полёты. Да я и сам уже стал иным и не глядел на себя со стороны. И когда входил в автобус, на меня уже не оборачивались, не смотрели, как на белую ворону. В конечном счёте, всё стало на свои места, и мое каждодневное приземление в другие миры, в иную жизнь уже не казалось мне чем-то особенным. Ожидание увидеть неизведанные земли отошло в прошлое, а рассказы и авиационные байки на промежуточных ночёвках стали привычным атрибутом лётной жизни. Они стали как бы продолжением моей биографии, частью моей жизни.
Как-то в один из осенних дней мы вновь прилетели в Чингилей по санзаданию: надо было срочно вывезти пострадавшего при пожаре мальчишку в город. На площадке было непривычно много народа. Не сразу я разглядел среди провожающих Анну Евстратовну. Она как бы слилась с окружающей толпой: деревенский румянец на щеках, приталенная овчинная тужурка. Выдавал её только модный, завязанный галстуком платок на шее. И еще резиновые сапоги на ногах: асфальта в Чингилее не предполагалось на ближайшие сотню лет, а вот дожди шли регулярно. Она подошла к Ватрушкину и стала что-то оживленно ему объяснять. Оказалось, что пострадал её ученик, пожар случился ночью, погибла бабушка, а у него множественные ожоги, теперь вся надежда на наш самолёт.
Мимоходом она представила нам своих учеников и пригласила Ватрушкина в школу, сказав, что для такой встречи она соберёт не только школьников, но и родителей.
— Вы лучше его пригласите, — кивнув на меня, ответил Ватрушкин.
— А я вас не разделяю, — ответила Анна Евстратовна. — Для меня вы одно целое. Как семья. Давайте назовём это вечером встречи с экипажем.
И вскоре такой случай нам представился.
Перед ноябрьскими праздниками нам поставили в план полёт в Чингилей. Напросился или организовал тот полёт Ватрушкин. Мне было всё равно, куда лететь, но я все же отметил, что в Чингилей Ватрушкин летает с особым удовольствием. И причина была понятна: обычно там нас встречала Анна Евстратовна.
Но едва мы пришли в диспетчерскую, как Ватрушкину позвонили с местных авиалиний.
— Вас тут домогаются артисты. Скандалят. Разберитесь с ними.
Разбираться Ватрушкин послал меня.
Выяснилось, что в Жигаловский район по приглашению администрации на гастроли летят артисты из филармонии. А скандал произошёл из-за реквизита. Его оказалось много, и диспетчер боялась, что он не поместится в самолёте.
— Оформляйте через грузовой склад! — требовала она.
Но артисты взбунтовались: они-то считали, что это их личные вещи, и они могут, не оплачивая, взять их с собой в самолёт.
Руководитель группы заявил, что обо всём они договорились с начальником аэропорта Брюхановым, и попросили связать их с Ватрушкиным.
— Нам сказали, что он отвечает за нашу доставку в Жигалово.
Когда я пришёл в диспетчерскую, то неожиданно обнаружил, что уже встречался с руководителем ансамбля. Им оказался друг Анны Евстратовны Вениамин Казимирский, которому она через меня передавала на конкурс детские работы.
Осмотрев багаж артистов, я решил, что оформлять их через склад — только время терять даром. По моим прикидкам, реквизит прекрасно поместится в самолёте, но загружать его надо было быстро: для полета в Чингилей нам могло не хватить светлого времени.
Но пока реквизит загружали в автобус, пока выносили и вносили багаж необычных пассажиров, прошёл час. Самое интересное, что артисты решили, что всю работу для них должна делать служба аэропорта. А поскольку они — артисты, то их место в буфете.
Присланный мне в подмогу уже знакомый «волкодав» поглядел на шумливых пассажиров, послушал их выкрики: не так берёте, не так несёте — плюнул и, послав всех куда подальше, отбыл на свой склад.
Кое-как, с грехом пополам, мы все же загрузили весь артистический реквизит, усадили подвыпивших артистов на жёсткие металлические сидения и поднялись в воздух. Если в городе на солнечных местах ещё подтаивало, то за последними домами и в лесу уже лежал снег. Тёмной шёрсткой выделялся лес, в который огромными белыми лоскутами вдавались поля, справа, в той стороне, где Байкал, поднимались к небу горы. Самолёт шёл параллельно им по уже не один раз протоптанной воздушной дороге.
Казимирский оказался разговорчивым парнем.
— Ну, что, вперед и с песнями! — сказал он, притулившись в кабинном проходе на том самом место, где сидела Анна Евстратовна, когда мы летели с ней в Жигалово. Но почему-то Ватрушкин не предложил ему сесть на струбцину, выкурив очередную папиросу, он, по своему обыкновению, решил подремать.
— Да, сложная у вас работёнка, — сказал Вениамин, оглядывая кабину. — Один на один с этим белым безмолвием. — Он кивнул на землю. — Как это там в песне? «Может быть, дотянет последние мили мой надёжный друг и товарищ мотор». Одна надежда на него, ведь так?
Я, вспомнив слова Ватрушкина о трудяге коленвале, согласно кивнул: как там работают крылья и расчалки, меня интересовали мало. Действительно, двигатель, громкий и неутомимый, порою из-за его грохота и поговорить было сложно, всегда оставался для лётчиков настоящим другом и помощником.
— Вот ты мне скажи, почему лётчикам не выдают парашюты, — начал дёргать меня за плечо Вениамин.
— Я выпрыгну, а ты останешься, — с улыбкой ответил я. — Что мне потом делать?
— Да, верно, помирать, так вместе, — согласился Казимирский. — Хочешь, расскажу анекдот про парашютистов? Летят. Вдруг один встаёт и идёт к двери. Сосед останавливает: «Ты же без парашюта!» А тот ему в ответ: «Ну и что, это же учебный прыжок».
Он хохотнул, а я подумал: чего только не наслушаешься в полётах. Пользуясь тем, что я знаком с его подружкой, Вениамин решил избрать меня временным поверенным в своих давних переживаниях.
— Когда-то я тоже хотел стать лётчиком и даже ходил на занятия в аэроклуб, — продолжал Вениамин. — И там насмотрелся такого!
Чего он там насмотрелся, мне было неведомо, почему-то вспомнился диагноз, который поставила ему Анна. Аэрофобия! Поразмыслив немного, я подумал, что говорит он много и возбужденно, потому что выпил перед полетом. Так делают многие, чтобы преодолеть свой страх. Думаю, он ив проход встал, чтобы не смотреть на землю.
Неожиданно Ватрушкин приоткрыл глаза:
— Послушай, а у тебя случаем нет спичек, — обратился он ко мне. — Я забыл свои.
Вениамин услужливо протянул Ватрушкину зажигалку.
— Значит, так, зачислили нас, усадили за столы, — рассказывал Казимирский. — И начали гонять. Ну, я и заявил им: нас принимали, как здоровых, а спрашивают, как умных. Меня взяли и отчислили.
— Вот что, дорогой мой, поди-ка и сядь на место. Не дай Бог болтнет, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — А парашютов у нас действительно нет.
Казимирский оказался понятливым, подняв руки, он быстрым голосом проговорил:
— Всё, всё, понял — ухожу с горизонта.
Спустившись в грузовую кабину, он, подмигнув мне, уселся на своё место и на всякий случай демонстративно пристегнулся ремнями.
В Чингилее нас встречало полпосёлка. Впервые сюда прилетели артисты аж из самого Иркутска. Был здесь и Брюханов. Он сказал, что договорился с Иркутском, и мы будем возить артистов по району, а сегодня здесь будет концерт, и мы остаемся на ночёвку.
Концерт должен был состояться в школе. Анна Евстатовна, узнав, что прилетел Ватрушкин, попросила его выступить перед школьниками. И Ватрушкин согласился.
Я думал, что он начнёт рассказывать о нашей работе, но он начал с того, что ему приятно бывать в таких вот отдалённых поселках.
— Основными скрепами, которые удерживают вот такие, как ваша, отдалённые деревни от вымирания и одичания, являются, — тут Ватрушкин начал загибать пальцы, — наличие работы, связь, я имею в виду транспорт, самолёты, машины. И сельские учителя. Лишится деревня хотя бы одной составляющей, и жизнь здесь станет ущербной и неполной, а может и вообще сойти на нет. Немецкий канцлер Бисмарк говорил, что победа над Австрией была победой прусского школьного учителя. Он имел в виду наличие в Пруссии всеобщего школьного образования, которое позволило готовить квалифицированные кадры для армии. Продолжая его мысль, могу утверждать, наша победа над Германией была бы невозможна без школьного учителя. Давайте возьмём самолёт. Можно управлять им, не имея образования? Давайте, как в цирке, посадим в кабину медведя. Думаете, найдутся охотники полететь на этом самолёте? Вряд ли. А во время войны были подготовлены десятки тысяч технически грамотных лётчиков. И кто их готовил? Учителя. И эти парни и девчонки побили фашистских асов.
Далее Ватрушкин рассказал, как во время войны они спасли маршала Иосипа Броз Тито.
— В сорок четвертом нашу часть отправили на авиабазу в Бари, — тут он подошёл к висевшей на стене карте и ткнул пальцем в сапог Аппенинского полуострова. — Кто мне ответит, какая здесь находится страна?
— Италия! — хором закричали ученики.
— Молодцы! — похвалил Ватрушкин. — Ставлю пять вашей учительнице. Так вот, оттуда мы летали к югославским партизанам. — Палец Ватрушкина скользнул вправо поперёк Адриатического моря. — Кроме нас, на аэродроме базировались англичане и американцы. Наши лётчики были привычны к полётам с подбором на маленькие горные и такие же, как у вас, площадки. Мы летаем, американцы и англичане сидят и ждут, когда им подготовят хорошие аэродромы югославские партизаны. Более того, они не верили, что мы туда летаем. Тогда Шорников купил на базаре плетёные корзины и, слетав к партизанам в Боснию, привёз в них снег. Эти корзины мы поставили около английских самолётов, мол, посмотрите, снег здесь есть только на Балканах. А позже Шорников вывез на самолёте главу партизан Иосипа Броз Тито, которого немцы уже считали своей добычей. Можете себе представить, как после этого американцы и англичане смотрели на нас.
Я сидел в классе, вместе со всеми слушал Ватрушкина, смотрел на географическую карту, висевшую на стене, и вспоминал школьное время. В моей жизни было несколько учителей, которые определили всю мою жизнь. Самая первая учительница, еще в начальной школе, — Клавдия Степановна, затем физик Пётр Георгиевич, которого мы звали Сметаной. И, конечно же, преподаватель истории Анна Константиновна. Это она учила нас видеть себя и мир с большой высоты не только в пространстве, но и во времени. И вот теперь рядом со мной оказался Ватрушкин. Каждый день он садился со мной, образно говоря, за одну школьную парту. Перемещаясь от одного аэродрома к другому, он ненавязчиво подсказывал и показывал то, что станет и для меня со временем привычным делом. Разлетаясь утром с базового аэродрома, мы, как пчёлы, собирали пыльцу со всех сельских, северных аэродромов и везли в город взяток. Наш неуклюжий и внешне похожий на деревенский валенок «кукурузник», поднявшийся из прошлой, казалось бы, другой, доисторической жизни, тащил нас вперёд и вперёд, в другие миры.
И вот рядом с ним здесь, в Чингилее, стояла маленькая, ладненькая Анна Евстратовна, которая рядом с ним совсем не походила на учительницу. Встретив в коридоре, ее можно было принять за старшеклассницу. Но едва она начинала говорить, как в классе наступала прозрачная, я бы даже сказал — благоговейная тишина. Что она знала такого, что её слушали с таким вниманием? Историю? Её знали и другие. Возможно, даже и не хуже. А если разобраться, она была моей ровесницей. Но сегодня я был всего лишь вторым пилотом, дело которого — не мешать левому, держать ноги нейтрально и терпеливо ждать зарплаты. И мне ещё учиться и учиться, пока доверят самому вести самолёт и везти пассажиров.
Затем начался концерт. Вениамин со своими артистами спели несколько песен. Пели хорошо, с душой. Их долго не отпускали. А в конце, по просьбе Анны Евстратовны, артисты исполнили ее любимую «Маленькую девочку», которую они посвятили нашему экипажу:
В огромном небе, необъятном небе,
Летит девчонка над страной своей, —
Кто в небе не был, кто ни разу не был,
Пускай вздыхает и завидует ей…
Здесь же, в школе, нам был приготовлен ужин, да такой, что мы открыли рот от изумленья, едва вошли в учительскую. На столе была рыба солёная, копчёная, мясо пареное, варёное, жареное. Кроме того, картошка, солёные грузди, пельмени, брусника со сгущёнкой. Было приятно наблюдать за хлопотами Анны Евстратовны. Ей помогала деревенская интеллигенция: фельдшер местного здравпункта, почтальон и жена директора леспромхоза. Всем этим действом заправлял Митрич. Он же предложил выпить за здоровье артистов, за представительницу районо, за большого авиационного начальника Ивана Брюханова и, конечно же, за Анну Евстратовну. Не забыли и нас.
— Редко вы к нам прилетаете, — обращаясь к артистам, сказал Брюханов.
— Но метко, — пошутил Вениамин. — Прилетели и угодили прямо за стол. Я вот что хочу сказать. Самое устойчивое представление о прошедшей жизни — это мифы. Например, создали миф, что ссыльным здесь плохо жилось. Ну, комары, они и в Питере комары. Морозы, они у печки хорошо переносятся. У создателя Ревтрибунала Льва Троцкого — он, как вам известно, тоже отбывал ссылку в этих краях — насчёт картошки дров поджарить, — тут Вениамин кивнул на стол, — тоже губа была не дура. И вообще, вожди наши любили поесть. Мне давно хотелось своими глазами посмотреть, где и как отбывал ссылку Лев Давыдович. Думаю, с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что появился наш самолёт. Убери его — и будет всё та же картина.
— Мой дед был родом из Тутуры, — сказал Брюханов. — Когда я спрашивал про ссыльных, он говорил — дармоеды. Жили на всём готовеньком, государственном. Это потом их стали называть страдальцами за народ. А этот народ вкалывал с утра до ночи, жалел их и нёс им, бедненьким бездельникам, всё, что заработал своим горбом. Пожили они здесь, отдохнули и — в бега. Кто в Лондон, кто в Швейцарию.
— Но их можно понять, — заметил Вениамин. — Цивилизованный человек должен жить в своей среде. Я всё время хотел понять революционную интеллигенцию, которая пошла в народ. Чего они добились? Да ничего. Многие из них потом бомбистами стали.
Слушали Вениамина молча, иногда дипломатично кивали — и только: мало ли чего наговорит залётный артист.
— Со стороны так, наверное, оно и должно, — перебил Вениамина Митрич. — Медведи должны быть с медведями, бурундуки с бурундуками. Это их среда. И вообще, сколько людей, столько и мнений. А справедливость, как и везде, имеет одно неуловимое, но определяющее свойство: подлаживаться под покупателя и служить тому, у кого больше прав. Диалектика!
Поняв, что разговор может повернуть в нежелательную для него сторону, Вениамин прекратил поминать ссыльных, поскольку они здесь жили по принуждению, а сидящие за этим столом — по собственной воле и никогда не жаловались, находя в здешнем житье-бытье свои выгоды и краски.
Но Митрич уже завёлся. Скинув с себя пиджак и выказав всем свою ослепительно белую нейлоновую рубашку, которая словно подчёркивала, что и здесь знают толк в моде, он глянул в упор на Вениамина своими глазами- щёлочками.
Но тут поднялась Анна Евстратовна.
— Пётр Дмитриевич! — ласковым и примиряющим голосом обратилась она к директору. — Мы сегодня собрались здесь по другому поводу. Давайте отложим уроки диалектического материализма на завтра. А сегодня будем общаться.
— Нет, не отложим! Вот что я вам, дорогие гости, хочу сказать, — глухим голосом продолжал Митрич. — До войны в наших краях жили двадцать пять тысяч человек. Более трех тысяч здоровых мужиков и парней ушли на фронт. Обратно не вернулось и половины. А сколько еще было выбито в гражданскую? Ныне каждый год на учёбу в город уезжают сотни, и сюда, как с фронта, почти не возвращаются.
И тут мой командир вновь удивил не только меня, но и заезжих артистов, и всех, кто был приглашён на этот ужин. Он встал, высокий, красивый, и спокойным голосом, так, как он обычно вёл в воздухе связь с землёй, начал читать стихи. Я их слышал впервые.
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь огневых,
Огнестрельных — пять.
Присутствовавший на ужине Мамушкин сказал, что Михалыч читал так, будто устанавливал радиосвязь с далёкими мирами.
Горькую обновушку
Другу шила я,
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Ватрушкин замолчал, в учительской повисла тишина. Молчание сломал Митрич.
— Вы верно сказали, — директор кивнул в сторону Ватрушкина, — нас спасает лес, тайга. Вырубим его, здесь будет пустыня. Кому захочется жить в пустыне? Никому.
Спасибо Аннушке, не побоялась, приехала в нашу глушь. Всем показала, что жить интересно можно везде.
— Пётр Дмитриевич, я не знаю, как вас благодарить, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — Такой теплоты, как здесь, я не встречала и, видимо, никогда не встречу нигде. Я слушала вас и подумала: есть ещё одна, но, может быть, главная составляющая, та, что нас сохраняет, охраняет и скрепляет в единое государство. Это наш родной язык. Спасибо Иннокентию Михайловичу, что он вспомнил Анну Андреевну Ахматову. В сорок втором она написала:
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Перед тем как идти к Митричу — он пригласил нас переночевать у него — Ватрушкин поинтересовался у Анны, проводит ли она с детьми уроки по парашютной подготовке.
— Сюда я летела, мне виделось одно, — с какой-то грустной улыбкой ответила она. — Вот приеду и переверну этот медвежий угол. «Я опущу кусочек неба на эти серые дома». А он сам взял меня в оборот. Здесь на меня опустилось само небо. Здесь всё, как в затяжном прыжке. От нас недалеко в тайге живут эвенки. Деревня называется Вершина Тутуры. Туда на зиму свозят детей, считая, что там их нужно не только учить читать и писать, но и приобщить к благам цивилизации. Так вот они, как могут, сопротивляются той цивилизации, которую мы всеми силами им навязываем. Хотят жить по тем законам, по которым жили их предки. И все эти дезодоранты, духи, машины, мягкие кресла и диваны, телевидение и прочие блага они с удовольствием поменяют на хороший карабин и собаку.
— А парашют у меня стащили. Так, из баловства. Соседский мальчишка Пашка-тунгус. Так его здесь все называют. Вообще они чужого не берут. Взять чужое — большой грех. Но его кто-то надоумил: ткани там много, возьмем кусок, и будет у нас костюм для охоты. На снегу его совсем не видно. Ну, испортили мне учебное пособие, но натолкнули на хорошую мысль. Я решила разрезать парашют и сшить из него спортивные костюмы. Когда сделали выкройку и прикинули, то получилось, что хватит на целую команду. Мы собираемся на районную спартакиаду школьников. Оказалось, что здесь все лыжники и стрелки. Ну, словом, охотники.
— А запасной-то хоть остался?
— Запаска осталась, — Анна улыбнулась. — Даже если я очень захочу отсюда выпрыгнуть, то обратного хода нет. Ни запасного, ни какого-то иного. Меня отсюда попросту не отпустят.
— Это почему же?
— Да в неё вселился бес, — влез в разговор Вениамин. — Одних сюда ссылали, а ты себя сама закопала.
— Веня, концерт окончен, — спокойным голосом остановила его Анна Евстратовна. — Сколько можно? Притормози!
— Нет, вы видели! — усмехнулся артист. — Я бросил всё, чтобы приехать и поддержать её. Человеку свойственно двигаться вперёд. Вот у лётчиков есть хороший девиз: летать быстрее, дальше и выше всех. Я правильно говорю? Как там в песне? «Всё выше, и выше, и выше!..»
— Ты говоришь, запасной у тебя остался, — сказал Ватрушкин. — Так отдай ему.
— Это ещё зачем? — не понял Вениамин.
— Веня, я себя не закопала, я живу, — засмеялась Анна Евстратовна. — Живу нормальной жизнью. Костюмы шью, мне весь посёлок помогает, детей учу. Чтобы понять меня, одного концерта мало. Надо здесь жить, а не прилетать на гастроли.
Утром мы перелетели в Жигалово, затем в Сурово, Коношаново. Везде были встречи, концерты, а потом мы вернулись в Жигалово. Там Брюханов передал Ватрушкину радиограмму, нас срочно вызывали на базу. Тогда мне казалось, что мы расстаемся ненадолго. Несколько раз уже с другим командиром я прилетал в Чингилей, но Анну Евстратовну почему-то не встречал. Года через два, когда закрыли леспромхоз, посадочную площадку в Чингилее тоже прикрыли, думали — до весны, а оказалось — навсегда.
Уже летая командиром на больших самолётах, возвращаясь с севера домой, с большой высоты я пытался найти в холодной и немой тайге крохотные огоньки Жигалово, и уже отталкиваясь от них по прямой, как в школьные времена — отталкиваясь от звёзд Большой Медведицы по внешней стороне ковша, искал Полярную звезду, — так и здесь я искал огоньки Чингилея. Иногда находил, но чаще всего ответом мне была пугающая пустота.
Уже тогда было ясно, что малую авиацию добивают, она подверглась такому разорению, после которого на восстановление понадобятся не годы — десятилетия: все посадочные площадки и аэродромы зарастали кустарником и травой, а самолёты были пущены на слом. Коля Мамушкин на мой вопрос, как же теперь добираются люди до Жигалово, ответил, что до Чикана и Жигалово можно добраться на машине и что на месте Чингилея остался всего один дом.
— Это Ватрушкин любил летать туда и делал всё, чтобы площадку не закрывали, — сказал Мамушкин. — И меня туда похлопотал, спасибо, я успел застать патриархальную таёжную Русь, ту, которая была и которой уже никогда не будет. А Брюханов помер вскорости после того, как перестали летать в Жигалово самолёты, — поведал Коля. — Васька Довгаль видел его в поликлинике. Брюханов похвастал, что был у врача, давление — сто двадцать на семьдесят, и пошутил, что ему с таким давлением можно и в космонавты.
— А через два дня в автобусе ему стало плохо. Успели только довезти до больницы.
Эти подробности я знал. Знал я и то, что Мамушкин так и не стал восстанавливаться на лётной работе, после Чингилея его перевели в Киренск. Там он и осел. Но говорить на эту тему не хотелось — чего ворошить прошлое. Уже прощаясь, Мамушкин добавил:
— Наша Аннушка, ну, помнишь ту учителку, она, представь себе, уехала. Ты думаешь, к этому артисту? Кстати, у нее, говорят, от него ребенок родился.
— Казимирскому, — припомнил я.
— Нет, она уехала с Митричем. Говорят, у них еще двое сыновей. Двойняшки. Вот и пойми этих женщин. Диалектика! — Мамушкин поднял вверх указательный палец. — Пришёл помочь, привёз сухих дров, растопил печь. И завоевал её сердце. Кстати, крёстным отцом у них стал наш командир — Ватрушкин. Ты же знаешь, он сейчас преподавателем в учебно-тренировочном отряде работает. Должно быть, рассказывает, как спасал Тито. Аннушку в Чингилее ещё долго вспоминали. Но кого бы она сейчас там учила?
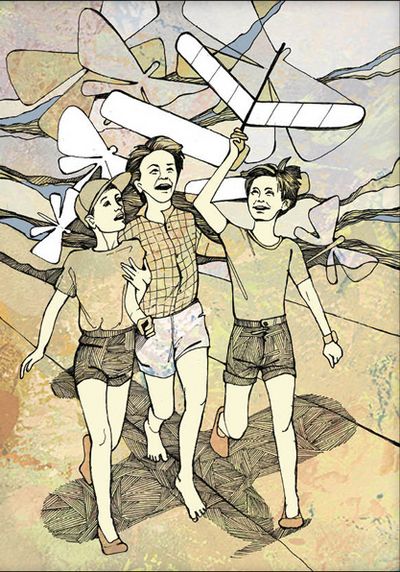
На главную: Предисловие






