Книга: Трилобиты: Свидетели эволюции
Назад: Глава 5. Трилобитовый взрыв
Дальше: Глава 7. Вопрос жизни и смерти
Глава 6.
Музей
На галерее, где праздная публика неторопливо прохаживается между выставленными скелетами вымерших тварей или муляжами динозавров, которые тщатся убедить зрителя, будто сотню миллионов лет можно стереть при помощи механического костяка и резинового подергивания, позади чудищ, есть неприметная дверца, на нее мало кто обращает внимание. Эта дверца полированного красного дерева открывается специальным ключом. Время от времени из нее появляется смотритель, выходит и замирает на миг, словно ошеломленный зрелищем толпы. Этот вход уводит от ярмарочного представления в другой мир: в мир настоящих костей и раковин. Я впервые вошел в эту дверь больше тридцати лет назад. В те времена, когда я начал работать в лондонском Музее естественной истории, его по-свойски назвали БМ, т.е. Британский музей. И это звание он унаследовал от славных времен. Уже прошло много лет с тех пор, как естественнонаучные коллекции отделили от предметов античной старины, заполняющих витрины внушительного здания на Блумсбери: там и фараоны, и медицинские склянки, и древние баркасы, и лорнеты… Там расположились и лаборатории древностей, античности, египетская, восточная и все прочие. Но все равно мы официально оставались Британским музеем (естественной истории). Мои итальянские коллеги до сих пор называют нас II Britannico — «британцы», и это превосходное имя абсолютно точно соединяет национальность и историю наших коллекций. Мое назначение было чем-то сродни вступлению в святой орден, да еще с непременным принесением обета бедности. Но я стал одним из счастливчиков, у кого мечты сошлись с реальностью. Влюбленный в трилобитов с самых малых лет, я бы занимался ими и так, бесплатно, но я стал одним из немногих избранных, кому за это еще и приплачивали! И мне выдали КЛЮЧИ. Они представляли собой тяжелую стальную связку, какие традиционно изображаются в тюремном хозяйстве. Ключи висели на стальном кольце, и мне было сказано, что я должен держать их при себе всегда. На ключах было выбито «Нашедшему — 20 шиллингов награды», надпись мгновенно переносила во времена, когда на соверен вы с возлюбленной отправлялись ужинать рыбой и жареной картошкой, а сдачи хватало на автобус домой. Почти все двери легко открывались волшебными чарами этих ключей. Там, в одной из каморок, наверняка знакомой Чарльзу Диккенсу, сидел специальный человек, работавший на полную ставку, чья единственная задача заключалась в том, чтобы ключи скользили в замках с уверенностью дружеского рукопожатия. Меня приняли в отдел палеонтологии — в исчезнувший мир вымершей жизни. И предоставили кабинет, больше похожий на часть лабиринта. Он находится под огромным парадным вестибюлем музея, за украшенной природными мотивами высокой готической дверью, за которой в роскошных старинных шкафах сложены коллекции трилобитов и все наполнено тонким ароматом учености. По окружности стен имеется узенький железный балкончик, он обегает кабинет на уровне человеческого роста, а над ним еще и еще полки. Снаружи за дверью стоит слон, в экспозиции он больше не нужен, и теперь выглядывает из-под пыльного покрывала. Когда-то здесь работал Т. Уайтерс, мировой знаток усоногих раков. В этом же кабинете сидел и мой предшественник У. Т. Дин, которого сманили работать в Канаду, тоже специалист по трилобитам. Для меня работать тут было редкой удачей, потому что возможностей стать сотрудником БМ на самом деле очень и очень немного. Словно нашлась замочная скважина и — надо же! — ключик подошел.
Задачи моей первой работы определялись так: «… способствовать исследованиям трилобитов…» — а для меня это звучало как «наслаждайся жизнью за наши деньги». Для моих попутчиков, выезжавших ежедневно со мной в 8:02 из Хенли-на-Темзе в Окстоне, именно так оно и выглядело. Они-то каждое утро готовились к схваткам по займам и кредитам, к составлению сложных записок в государственные комитеты или изобретению новых ходов для рекламы гамбургеров, а я каждое утро шел на встречу с трилобитами. «Ну, все же, что ты там делаешь?» — смущали они меня своим неподдельным любопытством. Главное, чем я занимался в Музее естественной истории, это изучение видов. Все заключения об эволюции следуют отсюда, от видового разнообразия: представление о разнообразии лежит в основе любых других исследований. И я один из немногих, кому дозволено давать видам названия — на высокопарном научном языке нужно говорить «видам, новым для науки». Это, если хотите, те атомы, из которых строятся все последующие рассуждения. Но не они, не названия, являются притягательной целью науки, где галактики и субатомные частицы — всего лишь фишки в настоящей игре. Названия — уровень плинтуса в мастерских биологии. Сейчас объясню подробнее.

Лоток с трилобитами из огромной коллекции Музея естественной истории в Лондоне. На этикетках указывается ключевая информация: кто, где и когда собирал данные образцы — это архив цивилизации
Никто не знает, сколько в точности видов существует на планете. В одних группах, например у птиц, представители сравнительно крупные и броские, и редко в таких группах находится нечто новое и неизвестное науке. Другое дело жуки: известна только малая часть видов, обитающих в живой или мертвой древесине. Спросите любого жуковеда, и он подтвердит, что составление перечня жуков — занятие бесконечное. Для геологического прошлого проблема видится немного по-другому. Нам достается лишь по небольшой части от всего, что существовало в прежние эпохи. Мы зависим от сохранности окаменелостей, процесса капризного и непонятного, а также и от удачи — нужен правильный удар молотком в правильном месте в правильное время. Напомню, что трилобитов мы обычно находим не целиком, а по кусочкам, так что мы попадаем в зависимость от упорства сборщика — найдет ли он все необходимые части панциря. Затем можно начать обдумывать, новый под микроскопом вид или нет. И это тоже не так уж просто.
Во-первых, что такое вид? У современных животных виды различаются сравнительно легко: даже близкородственные виды имеют массу специфичных черт, хорошо заметных опытному глазу. Два обычных вида европейских птиц из одного семейства — певчий дрозд и черный дрозд, — несмотря на внешнее сходство, сильно разнятся по окраске оперения, цвету яиц, песенкам и поведению. И даже еще более схожую пару — певчего дрозда и дрозда-дерябу — тренированный орнитолог не перепутает: у этих птиц и песенки, и образ жизни достаточно различны. Но от ископаемых трилобитов нам доступны лишь сброшенные шкурки. К счастью, трилобиты в одном немного напоминают дроздов — у них разное «оперение»; поверхность панцирей несет красивые и характерные скульптурные украшения, которые, скорее всего, отражают различия между видами. Часто близкие виды подчеркивают свою индивидуальность именно таким способом: нужно же как-то подыскать правильного брачного партнера. В широком смысле тот же принцип помогает рокерам находить рокеров (по кожаным жакетам с заклепками) или сводит вместе кришнаитов (бритая голова и тога). И если ископаемый материал сносной сохранности, то в нем можно разделять самостоятельные виды так же уверенно, как и на современном материале. Ну а затем наши экспертные ощущения требуется превратить в официально признанный новый вид. Как? Тут вступают в действие научные публикации. Вы не можете проснуться поутру в понедельник, посмотреть на дождь за окном и решить, что сегодня, пожалуй, нужно установить несколько новых видов. Новый вид официально не существует, пока о нем не появилась публикация в научном журнале. Автор, обычно авторитетный ученый, предлагает вид в качестве нового, поясняет конкретно, почему он новый, и сопровождает описание качественными иллюстрациями. И это серьезное дело. Необходимо написать, чем новый вид отличается от всех уже известных видов этого рода: говоря научным жаргоном, нужно составить диагноз нового вида. А для этого, понятно, придется пересмотреть дюжину или больше научных статей, сравнить свои экземпляры с другими похожими видами, которые когда бы то ни было получали научные названия. Процесс этот трудоемкий, потому что нужные статьи могут прятаться в малодоступных журналах Новосибирска, Норича или Нью-Дели. А значит, хорошая библиотека является огромным благом для специалиста. Поэтому для ученого библиотеки публикаций, дополняющие большие музейные коллекции, — все равно что бензин для машины. Если из-за небрежности или несчастливых обстоятельств не выполнить эти литературные изыскания как следует, то можно пропустить важную публикацию, где ваш вид уже описан и назван. И тогда ваше новое название будет сведено в синонимику (что в переводе с языка таксономиста: будет навсегда забыто), потому что у более старого имени есть приоритет. Научные названия в этом смысле совсем не похожи на названия улиц в городах Европы: они не меняются в соответствии с текущей политической обстановкой. Они почти что вечны. Роза для ботаника всегда останется розой, «хоть розой назови ее, хоть нет».
Для нового вида требуется придумать видовое имя, т.е. второе имя в полном названии. Многолетняя традиция (которая скоро, кажется, закончится) выработала некоторые правила именования видов. У них должны быть латинские или греческие корни, подходящие по смыслу: например, красивый вид награждается именем pulcher (по-латыни — красивый) или даже pulcherrima — «действительно очень красивый». Нельзя назвать вид verypretti (очень симпатичный) или jolliattractivi (чрезвычайно привлекательный). А вот с именем Rosa pulcherrima все в порядке. Если чуть-чуть изменить — Rosa pulcherrimus — это, хотя и лучше звучит, будет неправильно, потому что окончание видового имени указывает на грамматический род. Мне всегда нравилась приверженность к классическим корням, она связывала меня с теми школярами XVIII в., которые писали по-латыни и, возможно, по-латыни думали. Латинскими названиями я связан с великим Джоном Рэем и несравненным Каролусом Линнеусом (или Карлом фон Линнеем, если забыть про латынь). Мы все связаны великим предприятием по классификации природной жизни; на протяжении двух столетий мы одержимы идеей упорядочить наши знания. Я с наслаждением копаюсь в старых тяжелых словарях, составленных учеными классиками (передо мной сейчас лежит латинский словарь — академический Льюис и Шорт), в поисках перевода, например, слова «бородавчатый» или «стыдливый», чтобы из них составить название вида; и мне нравится потом читать цитаты из Овидия, подтверждающие употребление слов. И это подражание прошлой классической культуре больше напоминает крепкую связь, а не крепостную зависимость.
Теперь, на следующей стадии, необходимо связать новый научный ярлык с конкретным образцом — fons et origo — источником и первопричиной названия, и этот образец навсегда останется официальным пропуском данного вида. Вот он типовой экземпляр (или по-другому голотип) нового вида. На этой стадии особую важность приобретает музей. Типовой экземпляр должен сохраняться здесь вечно. В коллекциях отражено разнообразие естественной жизни, прошлой и настоящей. Вместе с типовыми экземплярами хранятся и другие, собранные повсюду от Антарктиды до Эквадора, Тянь-Шаня и Тимбукту — реестр всего живого и вымершего. В Музее естественной истории одни лишь коллекции окаменелостей занимают площадь размером с футбольное поле, а таких — четыре этажа. На каждом этаже ряды шкафов, в каждом шкафу примерно по сорок полок. На каждой полке помещается около пятидесяти экземпляров: голова кругом идет, когда пытаешься прикинуть общее число экземпляров в коллекциях.
Если мне нужно сравнить трилобитов с теми или иными современными членистоногими, я отправляюсь в зоологический отдел. И там, в тысячах тысяч банок покоятся змеи, рыбы, осьминоги, омары, замаринованные и неживые. Есть и ящерицы, пойманные Чарльзом Дарвином. Есть черви, вытащенные из морских глубин. Там должно быть и то, что я ищу: крупный родственник мокрицы, называемый Serolis, он обитает на дне под ледяными шапками Антарктики. Внешне он действительно напоминает трилобита (хотя и не является его близким родичем), и меня интересует тонкое устройство его туловищных сегментов. Я прохожу мимо бессчетных полок, и не нужно быть завзятым антропоцентристом, чтобы угадать на надутых губах трески унылый комментарий относительно столетнего сидения в банке. Краски выцвели, и, кажется, в заспиртованных бледнотелых созданиях отражен их долгий музейный стаж. Я иду вдоль бесцветного парада склянок и бутылок, и с каждой дверью голос сам собой теряет децибелы. Идешь и думаешь: смерть — вот твое печальное лицо, и если не разложение, то только мертвящий рассол.
Так или иначе, если вид назван, другие исследователи всегда смогут найти типовой экземпляр вида и, сравнив его со своим, решить, один это вид или они разные. Типовому экземпляру музейный куратор присваивает индивидуальный номер, он обычно пишется на маленькой этикетке или приклеивается прямо на образец, и этот номер служит официальной записью биологического разнообразия, уникальным указателем на конкретный образец (компьютеры сделали эту информацию гораздо более доступной). С некоторых пор, когда стала доминировать менее типологическая точка зрения на вид, голотипы утратили часть своей значимости: очевидно, что вид лучше обрисовывается набором типовых экземпляров, они дают представление о естественной изменчивости вида, ведь в конце концов нет в природе двух в точности похожих особей. Следовательно, важной оказывается вся коллекция, собранная вместе с голотипом (некоторые экземпляры этой коллекции называют паратипами — буквально сбоку от типа). В зоологическом отделе хранятся голотипы таких редких видов, что они известны по единственному экземпляру, а именно по тому, который белесо глядит на меня из своей банки. Так что не стоит удивляться их удрученному настроению.
Я надеюсь, что наступят такие времена, когда изображения всех этих экземпляров можно будет найти в Мировой паутине. Предположим, например, что исследователя в Сибумасу интересует, тот ли у него вид бабочки, который был описан сто лет назад заезжим ученым с Запада, или другой. Все, что ему нужно, это подключить свой полевой компьютер к Сети и найти подходящий сайт — и вот перед ним галерея голотипов, все они цветные, как в жизни, и сравнивай со своим экземпляром сколько душе угодно. Тут-то и покажут себя во всей полноте и столетнее хранение в нафталиновых шариках, и самоотверженная преданность кураторов музейным номерам и инвентариям. Только по этим записям мы сможем узнать, кто где живет и в каком количестве. Я думаю, еще очень долго визуальный реестр живого будет нам необходим. Конечно, все существеннее видовой «почерк» ДНК, но он не может заменить волшебную остроту человеческого глаза, способного разглядеть самые неуловимые различия. Мы все равно будем «судить на глазок», потому что это быстрее и практичнее (а также дешевле). В конце концов, именно у нашего вида способность к тонкому различению привела к сверхразвитию мозга и зрения.
В этой великой кампании по инвентаризации природы мне было дозволено в числе немногих называть новые виды трилобитов. Вся процедура описания окаменелостей мало отличается от описания бабочек, хотя голотипы новых видов все же менее хрупкие — многие из них я добыл сам с помощью молотка. Многие ископаемые виды редки, но, возможно, не потому, что они были естественным образом малочисленны, а потому, что их трудно собрать. У них, например, может быть много шипов или слишком тонкий панцирь. За годы работы я описал около 150 новых видов трилобитов, но до сих пор чувствую душевный подъем, если удается открыть «новый для науки» вид. Также случается открыть и новый род. Однажды я едва избежал номенклатурной катастрофы. Я решил назвать симпатичного нового трилобита по имени малоизвестной фригийской нимфы Эноны (Оепопе), которую я выкопал в своих классических источниках. Имя было благозвучным и подходило моим животным. Но в последний момент я обнаружил, что это имя уже присвоено одному червю.
А это полностью против правил, изложенных на всех языках в специальном томе с названием «Правила зоологической номенклатуры». Должен заметить, что из всех усыпляющих книг Правила заслуживают бесспорно первого приза, за исключением, может быть, «Начал латыни» Кеннеди. Правила состоят из целого перечня того, что «вам надлежит» и что «не надлежит» делать при именовании видов. В этом деле, как и при составлении ежегодных бухгалтерских отчетов или железнодорожного расписания, правила необходимы, иначе система наименований будет то и дело спотыкаться, но какой это рай для педантов! И один из важнейших параграфов — не давать одинаковое имя двум разным родам. К счастью, у меня оставалась возможность быстро, до опубликования, сменить название на Oenonella — такого нигде не числилось, — так что род стал Oenonella и остается им по сей день.
Когда животному дается имя, запрещается кого бы то ни было обижать, но правила разрешают быть благодарным и называть животных по имени коллег. Два чешских палеонтолога назвали трилобита Forteyops, также есть и Whittingtonia, и Walcottaspis, одним словом, в имени того или иного создания может быть отмечен и человек. Есть такая таксономическая уловка, как греческий суффикс -chisme (звучит по-английски, как kiss me — поцелуй меня), и его можно приставить к имени предполагаемой подружки: Polychisme, Anachisme и т.д. Одного своего трилобита с глабелью в форме песочных часов я назвал monroeae (по фамилии моей знакомой Мерилин), а мой коллега назвал окаменелость с горбом quasimodo. Эти маленькие вольности помогают запомнить названия видов. Правила не разрешают называть виды собственным именем, но можно придумывать шуточные имена, если это никого не оскорбляет. Не слишком красиво, например, называть вид jonesi по имени Джона, если вы собираетесь дальше заявить, что «этот мелкий и невзрачный вид является типичным обитателем навозных куч». Обычно в имени (на греческом или латыни) заключается какая-то информация о конкретном животном: Agnostuspisiformis — агностидный трилобит в форме горошины, Paradoxides oelandicus — парадоксидес с острова Оланд и т.д.
К именуемому присоединяется и именующий. Так, прекраснейший ордовикский трилобит со Шпицбергена (названный, естественно, по имени моей жены) носит корректное научное наименование Parapilekiajacquelinae Fortey, 1980. Это полезная часть имени отсылает исследователя к соответствующей публикации, когда вид со своим названием был впервые установлен: в данном случае в статье, опубликованной Форти в 1980 г. Для видов, описанных более ста лет назад, можно выполнить новое описание (или ревизию), переосмыслив его морфологию и родственные связи. Многие палеонтологи, с которыми я никогда не встречался, тем не менее знают меня в качестве добавки к названиям видов. Я надеюсь, что, если мы все же встретимся, их удивит моя молодость.
Вернемся к розам из Ромео и Джульетты: «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Предполагается, что само по себе имя несет не много смысла. Подобную науку физик Эрнест Резерфорд едко прозвал «коллекционированием марок», вполне вероятно, что он держал в уме таксономистов. Но нас такая точка зрения не должна сбить с толку. Хотя звучание научных названий порой забавно, сами названия являются органичной частью интеллектуальной работы. Для некоторых вопросов, которые я разберу дальше, именно четкое разграничение является решающим. Как можно рассуждать о разнообразии жизни, не зная единиц разнообразия (видов, родов и т.п.), которые и вычленяют опытные таксономисты. Как можно рассуждать об эволюции, если не считать виды реальными природными объектами, целостными единицами? Как можно обдумывать древнюю географию жизни, если нет объектов, которые можно было бы уверенно поместить на тот или другой континент, климатическую зону и т.д.? Больше трех риторических вопросов подряд в приличных книгах задавать не принято, поэтому я просто на них отвечу: «Никак нельзя», — и больше разглагольствовать на эту тему не стану. Хотя нет, брошу вдогонку Резерфорду, что милейшее занятие — коллекционирование марок — все же отличается от научной таксономии. Мы можем заглянуть в каталог Стэнли и про каждую марку узнать, когда она выпущена, ее цвет, водяные знаки, перфорации и даже текущую стоимость; эта информация точно и окончательно определяет каждую конкретную марку. А в настоящей науке мы вечно путешествуем к правильному ответу. Здесь к месту придется афоризм Роберта Льюиса Стивенсона: «Лучше ехать, чем доехать». Для науки беспрерывное движение, полное куража и оптимизма, — есть жизнь. Мы никогда не знаем с уверенностью, был ли отдельным биологическим видом тот трилобит, которого я со своим опытом и наблюдательностью выделил в отдельный вид по форме, скажем, пигидия и глабели: все же он жил много миллионов лет назад. Случается, что другой исследователь со мной не соглашается, и мой биологический вид представляется ему простой разновидностью уже известного вида (часто выделенного им самим). И нет окончательного суждения (или судьи) в подобном споре. Как нет и не может быть законченного портрета давно исчезнувшего биологического мира, потому что любая реконструкция хороша только в качестве научного заключения, а это заключение неизменно станет предметом дальнейших уточнений. Вот два примера. Первый: не так давно было открыто, что в прошлом чередовались два типа атмосфер — с высоким и низким содержанием углекислого газа, соответственно им планета становилась либо «зеленой», либо «ледяной». Этот температурный показатель увязывается практически с любым планетарным параметром земной поверхности от типа осадков до солнечного света и, очевидно, влияет на все живые организмы. Второй пример: когда-то считалось, что эволюция рыб стартовала в конце силура, а теперь с новыми находками показано, что примитивные родичи рыб почти с самого начала — в ордовике, если не в кембрии — жили вместе с трилобитами. Значит, мы должны новым взглядом посмотреть на экологию ордовикского мира. Подобные случаи заставляют нас менять представления о прошлом. И хотя стрела времени летит вперед, ничто не мешает нам пересматривать ретроспективу.
В XIX в. почти в каждом крупном городе создавались музеи. Частично вследствие убежденности в их воспитательном, образовательном и этическом значении. А часто как проявление гражданской гордости. И если в средние века богатые торговцы шерстью закладывали церкви, то в индустриальный век их последователи основывали музеи. В Британии музеи повсюду: по местам Гарди — в Дорсете и Лайм-Реджисе, по местам Вордсворта — в Озерном крае и Кесвике; в больших индустриальных городах их, конечно, больше — в Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Лидсе. В США в каждом крупном городе на Восточном побережье обязательно есть музей; некоторые из них связаны с именами знаменитых филантропов, таких как Пибоди (Йель) или Карнеги (Питтсбург). Можно найти такие музеи и в Австралии, и в Центральной Европе. И во многих вместе с коллекцией предметов искусства, подобранных по вкусу основателя музея, хранятся коллекции по естественной истории, где также имеются и важные типовые экземпляры. И так как не каждый музей, особенно небольшой, знает, что имеется в его коллекциях, то для исследователя выслеживание конкретного образца иногда превращается в целую эпопею. Мой приятель Адриан Раштон обнаружил в музее в Кесвике несколько образцов, описанных Дж. Постлвэйтом в книге «Шахты и минералы Озерного края» (Mines and Minerals of the Lake District, 1880), выпущенной очень ограниченным тиражом. «Пустая информация», — можно подумать, пока не сообразишь, что трилобиты чрезвычайно редки в Озерном крае и что большинство из них нашел и описал именно мистер Постлвэйт; а если к этому присовокупить, что геологическая история Озерного края реконструируется на основе видов трилобитов…
Создание крупных музеев стало одной из отличительных черт цивилизованности. В периоды культурного упадка сокровищницы знаний опустошаются, вспомнить хотя бы забвение великих достижений ученых греков в Раннем Средневековье. Их спасло только то, что халиф аль-Мамун приказал соорудить в Багдаде музей и библиотеку — так называемый Бэйт аль-Хикма, или Дом мудрости. Дом мудрости был достроен в 883 г. И это не просто скучный склад, это живая связь между классической цивилизацией и Возрождением. Я вижу в сегодняшних музеях естественной истории залог будущих деяний человечества, и не только для самих себя, но и для всех существ, которые вместе с человеком живут на планете. Даже самый загадочный экспонат может оказаться бесценным. Например, коллекция пород собак, сделанная лордом Ротшильдом, теперь хранится в музее в Тринге под Лондоном и напоминает о выставках гончих в XIX в. Возможно, все это преходяще, излишне? Но что если будущей исследователь решит изучить историю домашних животных и понадобятся образцы ДНК старых тканей или другая молекулярная информация? А так можно взять ДНК любого экспоната… потому большие музеи не должны исчезнуть.

Мечехвост Limulus считается на сегодняшний день самым близким ныне живущим родственником трилобитов. (Фото любезно передана Ричардом Коларом, Oxford Scientific Films.)
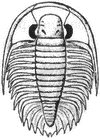
Назад: Глава 5. Трилобитовый взрыв
Дальше: Глава 7. Вопрос жизни и смерти

