Книга: Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной
Назад: Глава 5 Власть и архивы
Дальше: Глава 7 Созидательная эволюция
Глава 6
Происхождение и чудо
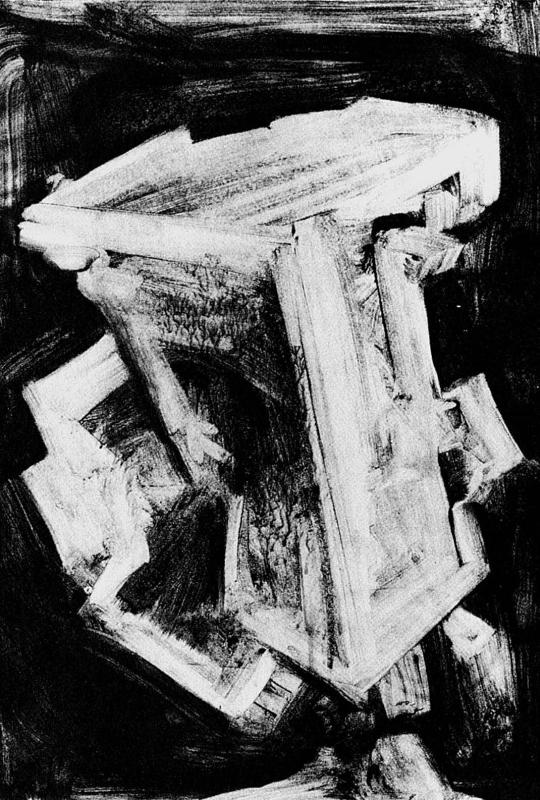
Случай, удача, совпадение, чудо. Одной из основных тем этой главы будут чудеса и то, что мы подразумеваем под ними. Я намерен утверждать, что те события, которые мы обычно называем чудесными, не сверхъестественны, а лишь являются частью спектра более или менее невероятных естественных событий. Иначе говоря, чудеса, если они и бывают, представляют собой не что иное, как поразительное стечение обстоятельств. Естественные и сверхъестественные события — это не те категории, которые можно было бы четко разграничить и противопоставить друг другу.
Существуют такие возможные события, ожидать которых не имеет смысла — столь они невероятны. Но мы не можем быть в этом уверены, пока не произведем необходимых расчетов. А чтобы произвести эти расчеты, нам необходимо знать, сколько времени или, говоря шире, сколько попыток есть у данного события на то, чтобы случиться. При бесконечном количестве времени или бесконечном числе попыток произойти может все что угодно. Ставшие притчей во языцех огромные числа, которыми снабжает нас астрономия, и огромные промежутки времени, характерные для геологии, объединяясь, переворачивают с ног на голову наши повседневные представления о том, что возможно, а что нет. Подкреплять эту мысль я собираюсь при помощи конкретного примера, который станет еще одной главной темой настоящей главы. Речь идет о проблеме возникновения жизни на Земле. Для большей ясности аргументации я сосредоточусь только на одной, произвольно выбранной теории, хоть и любая другая из современных теорий происхождения жизни тоже вполне сгодилась бы.
В своих объяснениях мы вправе допускать некую долю случайности, но не слишком большую. Весь вопрос в том, насколько небольшую. Безбрежность геологического времени позволяет нам делать более невероятные допущения, чем те, что были бы признаны удовлетворительными в суде, но, так или иначе, границы есть. Ключевым элементом всех современных объяснений жизни является накапливающий отбор. Он объединяет ряд допустимых случайных событий в такую неслучайную последовательность, конечный результат которой создает впечатление очень большой удачи — слишком невероятной, чтобы произойти благодаря одной лишь случайности, даже если бы время, отведенное для этого, превышало нынешний возраст Вселенной в миллионы раз. Накапливающий отбор — это разгадка, но он должен был как-то начаться, и нам никуда не деться от необходимости постулировать одноступенчатое случайное событие, стоящее у его истоков.
А этот необходимый начальный шаг был труден, потому что в нем — по крайней мере на первый взгляд — заложено противоречие. Для осуществления известных нам процессов репликации требуется участие сложных механизмов. В присутствии необходимых “станков”, молекул репликазы, цепочки РНК будут эволюционировать и эволюция их будет из раза в раз приходить к одной и той же конечной точке — к результату, “вероятность” которого может показаться нам исчезающе малой, пока мы не задумаемся о возможностях накапливающего отбора. Но, чтобы накапливающий отбор начался, ему нужно помочь. Он не начнется, если его не обеспечить катализатором вроде молекулярных “станков” из предыдущей главы. Но подобные катализаторы вряд ли могут возникать спонтанно — разве что при участии других молекул РНК. ДНК реплицируется на сложнейшей внутриклеточной аппаратуре, записанные слова реплицируются на ксероксе, но ни в том ни в другом случае без вспомогательных механизмов репликация не пойдет. Ксерокс может скопировать схему своего устройства, но вот возникнуть спонтанно не может. Биоморфы без труда реплицируются в той окружающей среде, которую им обеспечивает соответствующая компьютерная программа, но сами они не способны ни написать для себя такую программу, ни смастерить компьютер, чтобы запустить ее. Теория слепого часовщика необычайно могущественна, когда нам позволено принимать репликацию, а следовательно, и накапливающий отбор как данность. Но если для репликации необходима сложная аппаратура, тогда мы оказываемся в затруднительном положении, поскольку единственный известный нам путь возникновения сложной аппаратуры — это в конечном счете накапливающий отбор.
У современной клеточной машинерии — аппарата репликации ДНК и синтеза белка — налицо все признаки высокоразвитой, тщательно разработанной техники. Мы уже видели, с какой ошеломляющей точностью она способна хранить данные. На своем миниатюрном уровне она отличается той же изощренностью строения, что и человеческий глаз среди макроскопических объектов. Любой, кто даст себе труд подумать, согласится с тем, что возникновение столь сложного механизма, каким является человеческий глаз, путем одноступенчатого отбора невозможно. К сожалению, то же самое, вероятно, справедливо и по отношению к мельчайшим деталям внутриклеточной аппаратуры, при помощи которой самовоспроизводится ДНК, и это касается не только клеток таких высокоорганизованных существ, как мы или амебы, но и более примитивно устроенных бактерий и сине-зеленых водорослей (или, по современным представлениям, цианобактерий).
Итак, накапливающий отбор может порождать сложность, в то время как одноступенчатый отбор на это не способен. Но накапливающий отбор не может начать свою работу без наличия некоего базового комплекта механизмов репликации и при отсутствии у репликаторов “рычагов власти”, а известные нам механизмы репликации столь сложны, что никак не могли возникнуть иначе, кроме как путем накапливающего отбора! Некоторые люди видят тут главный изъян всей теории слепого часовщика. Им это кажется окончательным аргументом в пользу существования первоначального проектировщика — отнюдь не слепого, а, напротив, дальновидного сверхъестественного часовщика. Возможно, говорят они, Создатель и не следит изо дня в день за ходом эволюционных событий; возможно, он не проектировал ни волка, ни ягненка, не создавал деревьев, но он должен был наделить репликаторы властью, соорудив самый первый аппарат для репликации — ту исходную систему из ДНК и белков, которая делает возможным процесс накапливающего отбора — а следовательно, и эволюцию.
Аргумент этот откровенно беспомощен, причем нетрудно увидеть, что он сам себя же и опровергает. Организованная сложность — вот то, с объяснением чего у нас имеется затруднение. Если бы только мы могли постулировать без доказательств существование организованной сложности, пусть даже всего лишь белковой машины для репликации ДНК, то объяснить с ее помощью возникновение еще более сложных объектов нам было бы относительно легко. Об этом-то, собственно, и идет речь на протяжении почти всей книги. Но разумеется, Творец, способный выдумать нечто столь сложное, как белковый аппарат репликации ДНК, должен быть сам как минимум не менее сложен. А уж если предполагать наличие у него таких высокотехнологичных дополнительных функций, как выслушивание молитв и отпущение грехов, он должен быть устроен еще сложнее. Объяснять происхождение репликации ДНК при помощи сверхъестественного Создателя — это не объяснить ровным счетом ничего, ибо вопрос о происхождении самого Создателя останется открытым. Вы будете вынуждены сказать что-нибудь вроде того, что “Бог был всегда”, но если вас устраивают такие легкие лазейки, то с тем же успехом вы могли бы сказать, что и “ДНК была всегда” или “жизнь была всегда”, и на том успокоиться.
Чем дальше мы уйдем от чудес, от событий крайне маловероятных, от фантастических совпадений и от крупных удач, чем подробнее нам удастся представить каждую большую случайность в виде ряда небольших случайностей, тем более убедительными для рационально мыслящих людей будут наши объяснения. Но в этой главе мы задаемся вопросом, насколько невероятное и чудесное единичное событие мы вправе допустить. Каким может быть самое большое чистейшее, абсолютнейшее совпадение, чудесная, беспримесная случайность, которая сошла бы нам с рук в наших умозаключениях и все еще позволяла бы дать удовлетворительное объяснение феномена жизни? Для того чтобы обезьяна смогла случайно напечатать METHINKS IT IS LIKE A WEASEL, требуется очень большая удача, которая, однако же, вполне измерима. Мы рассчитали, что вероятность такого события составляет где-то 1 к 10 тыс. миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов, то есть к 1040. Никто не в состоянии по-настоящему прочувствовать или представить себе столь большое число, и этот уровень вероятности мы просто приравниваем к невозможности. Но, пусть такие значения и непостижимы для нашего разума, это совершенно не повод в ужасе бежать от них. Возможно, число 1040 очень велико, но мы по-прежнему можем записать его и использовать в вычислениях. В конце концов, бывают числа и больше — например, 1046. И оно не просто больше: чтобы получить 1046, надо взять миллион раз по 1040. А что если мы каким-то образом соберем стадо из 1046 обезьян и каждой выдадим по клавиатуре? Ну что ж, тогда одна из них торжественно выстучит METHINKS IT IS LIKE A WEASEL, а еще какая-нибудь почти наверняка наберет I THINK THEREFORE I AM. Проблема тут, разумеется, в том, что нам неоткуда взять столько обезьян. Даже если всю материю во Вселенной обратить в обезьянью плоть, этого все равно будет недостаточно. Обезьяна, печатающая METHINKS IT IS LIKE A WEASEL, — это количественно слишком большое чудо, оно измеримо слишком велико, чтобы можно было допускать его возможность в теориях, относящихся к реальному миру. Но, чтобы это выяснить, мы должны были сесть и произвести необходимые расчеты.
Стало быть, существуют такие уровни чистого везения, которые не только недоступны жалкому человеческому воображению, но и непомерны с точки зрения наших бесстрастных вычислений, касающихся происхождения жизни. Но я повторяю свой вопрос: насколько большую степень удачи, какую долю волшебства нам все-таки позволительно допустить? Давайте не будем уклоняться от ответа на том лишь основании, что придется иметь дело с большими числами. Вопрос этот совершенно правомерен, и мы в состоянии как минимум назвать все то, что нам необходимо знать, чтобы рассчитать ответ.
И вот вам одно поразительное соображение. Этот ответ на наш вопрос, насколько может быть велика доля допустимой случайности, зависит от того, является наша планета единственной обитаемой или же жизнь во Вселенной — обычное дело. Единственное, что мы знаем наверняка, — это то, что жизнь смогла возникнуть однажды здесь, на этой планете. Но мы не имеем ни малейшего понятия о том, есть ли жизнь где-нибудь еще. Вполне возможно, что и нет. Некоторые люди вычислили, что жизнь должна быть и в других уголках Вселенной. Они исходили из следующих рассуждений (порочность которых я сейчас раскрою). Вероятно, во Вселенной существует по меньшей мере 1020 (то есть 100 миллиардов миллиардов) планет, более-менее подходящих для возникновения жизни. Нам известно, что здесь жизнь возникла, а значит, это не так уж невероятно. Следовательно, хотя бы на некоторых из миллиардов миллиардов других подобных планет жизнь тоже должна быть, это практически неизбежно.
Изъян подобной аргументации кроется в том умозаключении, что поскольку жизнь возникла здесь, значит, это не может быть такой уж чудовищной случайностью. Обратите внимание: данный вывод содержит в себе допущение, что все происходящее на Земле с большой вероятностью может произойти и еще где-нибудь во Вселенной, а это, собственно, и есть то, что мы пытаемся выяснить. Иными словами, такой подход к статистике — “жизнь должна быть и в других точках Вселенной, потому что она есть здесь” — использует в качестве одной из исходных посылок именно то, что собирается доказывать. Из этого совершенно не следует, что вывод о существовании жизни в других точках Вселенной непременно ошибочен. Лично я почти уверен в его правильности. Но данный конкретный аргумент в его пользу — это просто-напросто не аргумент, а всего лишь предположение.
Давайте-ка обсуждения ради попробуем встать на противоположную точку зрения — что жизнь возникла за все время лишь однажды, и было это здесь, на Земле. Есть соблазн восстать против этого предположения на основаниях чисто эмоциональных: нет ли в такой позиции чего-то ужасающе средневекового? Не напоминает ли это те времена, когда церковь учила нас, будто Земля — центр Вселенной, а звезды — всего лишь крохотные просвечивающие отверстия в небесном своде, сделанные для нашего развлечения (или, что даже еще более высокомерно, будто звезды совершают свой путь по небу для того, чтобы оказывать астрологическое влияние на наши маленькие жизни)? Какая самонадеянность — считать свою захолустную планету (во Вселенной, где их миллиарды миллиардов), свою захолустную солнечную систему и свою захолустную галактику единственными отмеченными печатью жизни! Почему, скажите на милость, такой чести должна была удостоиться именно наша планета?
Искренне прошу меня простить, поскольку я чрезвычайно рад, что мы ушли от средневековой религиозной узколобости, а к современным астрологам отношусь с презрением, но, боюсь, что все рассуждения о “захолустности” из предыдущего абзаца являются пустыми разглагольствованиями и не более того. Совершенно не исключено, что наша захолустная планета в буквальном смысле единственная, где когда-либо возникала жизнь. Дело в том, что если вдруг действительно на свете существует только одна планета с жизнью, то это неизбежно должна быть наша планета — по той очень веской причине, что именно “мы” обсуждаем сейчас этот вопрос! Если происхождение жизни — событие и вправду настолько невероятное, что имело место всего однажды, значит, это было именно на нашей планете. Получается, что говорить о высокой вероятности зарождения жизни на других планетах, исходя из факта наличия жизни на Земле, неправомерно. Такие аргументы — палка о двух концах. Мы не можем даже приступить к ответу на вопрос, сколько во Вселенной обитаемых планет, покуда не найдем какие-то независимые аргументы касательно того, насколько в принципе легко может возникать жизнь.
Но мы начинали с другого вопроса. Мы интересовались, какую долю везения можно допустить в теории о происхождении жизни на Земле, и я сказал, что ответ здесь зависит от того, является жизнь уникальным явлением или же она зарождалась во Вселенной многократно. Давайте начнем с того, что придумаем какое-нибудь название для вероятности появления жизни на случайно выбранной планете, сколь бы низкой эта вероятность ни была. Назовем ее, к примеру, ВСЗ — вероятность самопроизвольного зарождения. Если мы вооружимся пособиями по химии, станем пропускать электрические разряды сквозь смеси предполагаемых атмосферных газов и вычислять вероятность спонтанного возникновения реплицирующихся молекул в атмосфере типичной планеты, это и будет выяснением ВСЗ. Предположим, что даже по самым благоприятным нашим прогнозам ВСЗ окажется крайне маленькой — например, составит один к миллиарду. Очевидно, что нечего и надеяться на то, чтобы воспроизвести такую фантастическую случайность, такое чудо в лабораторном опыте. Однако если мы исходим из возможности, что жизнь во Вселенной возникала лишь однажды (а мы имеем полное право занять такую позицию, хотя бы в дидактических целях), то это означает, что мы разрешаем себе допускать очень большую степень удачи, поскольку во Вселенной есть множество планет, на которых жизнь могла бы возникнуть. Согласно одной из оценок, на свете есть 100 миллиардов миллиардов планет, а это в 100 млрд раз больше, чем шансы против возникновения жизни в той весьма скромной оценке ВСЗ, которую мы сделали. Подводя итог нашим рассуждениям, можно сказать, что максимально допустимое количество удачи для правдоподобной теории возникновения жизни должно составлять 1 к N, где N — число подходящих планет во Вселенной. Очень многое скрывается за этим словом “подходящих”, но все же давайте считать вероятность 1 к 100 миллиардам миллиардов максимальной верхней границей той степени случайности, которую нам позволяет допустить подобная аргументация.
Вообразите, что это означает. Мы приходим к химику и говорим ему: доставай свои справочники и свой калькулятор, заточи свой карандаш и заостри свой ум, заполни свою голову формулами, а колбы — метаном, аммиаком, водородом, двуокисью углерода и всеми остальными газами, какие могут найтись на первозданной необитаемой планете. Нагрей эту смесь, пронзи ее разрядами молний, а свой мозг — разрядами вдохновения. Пусти в дело все свои хитроумные химические методы и дай нам наилучшую химическую оценку вероятности спонтанного возникновения самореплицирующейся молекулы на среднестатистической планете. Или, если сформулировать вопрос иначе: как долго придется ждать, преж де чем случайные химические события, беспорядочные соударения атомов и молекул приведут к появлению такой молекулы, которая сможет воспроизводить сама себя?
Химики не знают ответа на этот вопрос. Большинство современных химиков, вероятно, сказали бы, что по меркам человеческой жизни ждать пришлось бы долго, но, возможно, не так уж и долго, если судить по космологическим меркам. Исходя из геологической истории нашей планеты можно предположить, что потребуется где-то миллиард лет — или, как сейчас стало принято говорить, один эон, — приблизительно столько времени прошло между возникновением Земли 4,5 млрд лет назад и появлением первых ископаемых организмов. Однако прелесть нашего аргумента “от числа планет” состоит в том, что даже если химик скажет нам, что потребуется “чудо”, которого придется ждать миллиард миллиардов лет — намного дольше, чем существует Вселенная, — то и такой вердикт ничуть не смутит нас. Ведь вполне возможно, что на свете больше миллиарда миллиардов подходящих планет. Если каждая из них существует так же долго, как и Земля, значит, мы располагаем миллиардом миллиардов миллиардов плането-лет. Этого более чем достаточно! При помощи простого умножения чудо превращается в практическую возможность.
Во всей этой аргументации скрыто одно допущение. То есть на самом деле их там множество, но мне бы хотелось поговорить конкретно об одном. Оно состоит в том, что если только жизнь (то есть репликаторы и накапливающий отбор) в принципе возникает, то она всегда доходит до той точки, когда у созданий, порожденных ею, оказывается достаточно интеллекта, чтобы рассуждать о собственном происхождении. В противном случае рассчитанная нами допустимая доля случайности должна будет закономерно уменьшиться. А если точнее, минимальная вероятность зарождения жизни на отдельно взятой планете будет составлять единицу к общему числу всех имеющихся во Вселенной подходящих планет, поделенному на вероятность того, что жизнь, начавшись, приведет к возникновению разума, способного задаваться вопросами о том, как он возник.
Тот факт, что наличие “разума, способного задаваться вопросами о том, как он возник” имеет какое-то отношение к делу, может показаться несколько странным. Чтобы понять, почему это действительно важно, давайте пойдем от противного. Представьте себе, будто возникновение жизни — событие вполне возможное, а вот последующая эволюция интеллекта крайне маловероятна и требует необычайного везения. Пускай возникновение разума будет настолько невероятным событием, что произошло оно лишь на одной планете во Вселенной, хотя жизнь при этом возникла на многих. А зная, что мы достаточно умны для того, чтобы обсуждать данную тему, мы знаем и то, что в таком случае этой единственной планетой должна быть Земля. Теперь давайте предположим, что и возникновение жизни, и возникновение разума — события чрезвычайно маловероятные. Тогда вероятность появления такой планеты, как Земля, которой повезло дважды, будет равна произведению двух малых вероятностей, то есть еще намного меньше, чем каждая из них в отдельности.
Это как если бы на создание теории о нашем возникновении нам была выделена некая порция постулируемой удачи. Максимальный размер этой порции соответствует числу подходящих планет во Вселенной. Имея эту отпущенную нам порцию случайности, мы можем “тратить” ее в ходе своих рассуждений как некий ограниченный ресурс. Если мы израсходуем почти всю отведенную нам дозу на зарождение жизни как таковой, тогда в последующих разделах своей теории, касающихся, к примеру, эволюции мозга и интеллекта, мы будем вправе допустить только очень малую долю случайности. Если же на теорию о возникновении жизни мы потратим не все, тогда у нас останется кое-что и для теорий о дальнейшей эволюции, которая шла уже после того, как накапливающий отбор взялся за дело. Если же мы хотим бóльшую часть выделенной нам удачи израсходовать на теорию о происхождении разума, тогда на теорию о возникновении жизни у нас мало что останется: нам придется придумывать какую-то такую теорию, в которой зарождение жизни будет событием практически неизбежным. Ну а если для обоих этих этапов нашей теории потребуется меньше случайности, чем нам позволено допустить, тогда мы можем найти излишкам иное применение и предположить существование жизни где-нибудь еще во Вселенной.
Мое субъективное ощущение таково, что, стоит лишь накапливающему отбору заработать как следует, дальше — для последующей эволюции жизни и интеллекта — нам потребуется относительно малая доля удачи. Накапливающий отбор, если он уже начался, представляется мне силой достаточно могущественной, чтобы возникновение разумной жизни стало если не неизбежным, то очень вероятным. Это означает, что мы можем, если захотим, практически всю отведенную нам порцию допускаемого везения потратить одним махом — на теорию о зарождении на планете жизни. Следовательно, шансы, которые имеются в нашем распоряжении, если мы только захотим ими воспользоваться, составляют 1 к 100 миллиардам миллиардов (или к любому другому количеству подходящих планет, сколько их есть по нашему мнению). Это максимальное количество случайности, какое мы вправе использовать в своей теории. Допустим, к примеру, мы решим предположить, будто жизнь зародилась вследствие спонтанного случайного возникновения ДНК и всех необходимых для ее репликации белковых механизмов. Что ж, сколь бы экстравагантной ни была эта теория, мы можем позволить себе подобную роскошь при условии, что шансы такого шального совпадения хоть сколько-нибудь больше, чем единица к 100 миллиардам миллиардов.
Может показаться, что это щедро. Вполне возможно, что данного допущения с запасом хватит на спонтанное возникновение ДНК или РНК. Но этого и близко не достаточно для того, чтобы мы могли совершенно обойтись без накапливающего отбора в своих теориях. Шансы на формирование хорошо соответствующего своим целям организма, который может летать как стриж, или плавать как дельфин, или видеть как орел путем чистой удачи — одноступенчатого отбора, — неизмеримо меньше, чем единица к числу не то что планет, но атомов во всей Вселенной! Нет, сомневаться не приходится, в наших объяснениях живой природы нам никуда не деться от изрядной доли накапливающего отбора.
Но, хотя в своих теориях о происхождении жизни мы и имеем полное право распоряжаться огромным количеством везения — возможно, порядка единицы к 100 миллиардам миллиардов, — подозреваю, что на самом деле нам понадобится всего лишь крохотный кусочек от этой причитающейся нам порции. Зарождение жизни на отдельно взятой планете может быть событием действительно крайне маловероятным как с точки зрения нашей повседневной жизни, так и по меркам химической лаборатории и все же при этом достаточно вероятным, чтобы случиться не единожды, но многократно в различных уголках Вселенной. Давайте оставим наши статистические аргументы, основывающиеся на общем числе планет, на крайний случай. В конце этой главы я приду к парадоксальному выводу, что, возможно, необходимо, чтобы та теория, которую мы ищем, казалась неправдоподобной и даже сверхъестественной с позиции наших субъективных умозаключений (учитывая то, каким образом мы эти умозаключения делаем). Но тем не менее по-прежнему имеет смысл попробовать поискать теорию происхождения жизни с наименьшим уровнем невероятности. Раз теория спонтанного возникновения ДНК вместе со всем своим копировальным аппаратом столь немыслима, что вынуждает нас считать жизнь явлением крайне редким, а возможно, даже и уникальным, характерным только для Земли, значит, первым делом стоит попытаться найти более правдоподобную теорию. Так что же, можем мы поспекулировать насчет более-менее вероятных возможностей, которые могли бы положить начало процессу накапливающего отбора?
Слово “спекулировать” имеет пренебрежительный оттенок, но в данном случае он совершенно неуместен. Ни на что иное, кроме спекуляций, мы просто не можем рассчитывать, ведь речь идет о событиях, которые имели место мало того что 4 млрд лет назад, так еще и в мире, радикально не похожем на наш. Например, в тогдашней атмосфере почти наверняка отсутствовал несвязанный кислород. Но, хотя химия мира могла измениться, законы химии остались прежними (на то они и законы), и современные химики знакомы с ними достаточно хорошо, чтобы позволить себе кое-какие компетентные спекуляции, правдоподобие которых будет подвергнуто строгой проверке на соответствие этим законам. Тут и речи нет о безудержных и безответственных спекуляциях, когда буйство фантазии ничем не ограничено, как это бывает с такими неубедительными средствами из области космической фантастики, как “гипердвигатели”, “деформаторы времени” и “двигатели на бесконечной невероятности”. Большинство возможных спекуляций, касающихся возникновения жизни, вступят в конфликт с законами химии и будут отринуты, даже если в полную силу использовать наш запасной статистический аргумент о количестве планет. Таким образом, осторожные, избирательные спекуляции могут оказаться полезным делом. Но, чтобы ими заниматься, необходимо быть химиком.
Я биолог, а не химик и во всей этой арифметике полагаюсь на химиков. У каждого из них есть своя излюбленная теория, и недостатка в этих теориях не наблюдается. Я мог бы попытаться беспристрастно изложить вам их все. Именно так следовало бы поступить, пиши я учебник для студентов. Но эта книга — не учебник. Основная мысль “Слепого часовщика” состоит в том, что для объяснения жизни, так же как и всех прочих явлений во Вселенной, нам нет необходимости предполагать наличие того, кто ее создал. Здесь мы выясняем, какой тип решений следует искать для того типа задач, что стоят перед нами. И я думаю, что для более наглядного ответа на этот вопрос лучше будет не рассматривать множество отдельных теорий, а сосредоточиться на одной из них, взяв ее в качестве примера такого решения, какое в принципе могло бы быть у нашей основной задачи о том, откуда берет начало накапливающий отбор.
Итак, какую же теорию мне взять в качестве показательного примера? В большинстве учебников явное предпочтение отдается семейству теорий об органическом “первичном бульоне”. По-видимому, до возникновения жизни земная атмосфера была похожа на атмосферу тех планет, которые и теперь безжизненны. В ней не было кислорода, зато водород и водяные пары имелись в изобилии, также там был углекислый газ, а еще, по всей вероятности, некоторое количество аммиака, метана и других простых органических газов. Химики знали, что в подобной бескислородной атмосфере возникают благодатные условия для спонтанного синтеза органических соединений, и предприняли попытку воссоздать в колбе миниатюрную модель той обстановки, что была на молодой Земле. Через такие колбы они пропускали разряды, имитирующие молнии, и ультрафиолетовые лучи, которые до появления экранирующего их защитного озонового слоя должны были быть намного интенсивнее, чем теперь. Результаты оказались захватывающими. В колбах самопроизвольно образовывались органические молекулы, в том числе и такие, которые обычно встречаются только в составе живых организмов. Ни ДНК, ни РНК там не появилось, однако строительные блоки для этих крупных молекул, называемые пуринами и пиримидинами, возникали. Обнаруживались там и аминокислоты — строительные блоки для белков. Недостающее звено подобных теорий — все то же начало процесса репликации. Пока что не удавалось заставить эти строительные блоки объединиться в самокопирующуюся цепочку вроде молекулы РНК. Возможно, в один прекрасный день удастся.
Но в любом случае теория первичного бульона — не та, которую я выбрал в качестве иллюстрации для решений, какие нам следует искать. Я уже использовал ее в своей первой книге “Эгоистичный ген”, а здесь предпочел бы опробовать несколько менее модную (хотя в последнее время и начавшую завоевывать признание) теорию, чьи шансы оказаться верной, как я думаю, по меньшей мере не исключены. Ее дерзость притягивает, и на ее примере хорошо можно рассмотреть те свойства, которыми должна обладать любая убедительная теория происхождения жизни. Речь идет о теории “неорганических минералов”, впервые выдвинутой 20 лет назад химиком из Глазго Грэмом Кернсом-Смитом и с тех пор изложенной и разработанной им в трех книгах, последняя из которых, “Семь подсказок о возникновении жизни”, представляет проблему возникновения жизни как головоломку, достойную Шерлока Холмса.
Согласно точке зрения Кернса-Смита, аппарат ДНК/белок появился относительно недавно — возможно, не ранее 3 млрд лет назад. До этого же накапливающий отбор в течение многих поколений имел дело с совершенно иными реплицирующимися объектами. Однажды возникнув, ДНК проявила себя настолько более эффективным репликатором, оказывающим настолько большее влияние на копирование самой себя, что исходная репликативная система, породившая ее, осталась за бортом и была забыта. В соответствии с таким взглядом современный аппарат воспроизводства ДНК — это выскочка, недавний узурпатор, перехвативший роль основного репликатора у более раннего и топорного предшественника. Возможно, такая “смена власти” происходила даже многократно, но самый первый механизм репликации должен был быть достаточно прост, чтобы возникнуть тем путем, которому я дал название “одноступенчатый отбор”.
Химики разделяют свой предмет на две основные отрасли: органическую и неорганическую. Органическая химия — это химия одного элемента, углерода. Неорганическая химия — все остальное. Углерод действительно важен и заслуживает того, чтобы ему была посвящена особая отрасль химии, отчасти потому, что на нем основывается химия всего живого, а отчасти потому, что те же самые свойства углерода, которые делают его пригодным для жизни, делают его востребованным и в промышленности, например в производстве пластмасс. Главное свойство атомов углерода, делающее их столь подходящими как для жизни, так и для промышленного синтеза, — это их способность образовывать, объединяясь друг с другом, очень крупные молекулы с неограниченным многообразием форм. Еще один элемент, обладающий похожими свойствами, — это кремний. И хотя химия нашей нынешней земной жизни вся насквозь углеродная, в других частях Вселенной дело, возможно, обстоит и не так. Возможно, не всегда оно обстояло так и на нашей планете. Кернс-Смит считает, что первоначально жизнь на Земле опиралась на самовоспроизводящиеся неорганические кристаллы типа силикатов. Если он прав, то органические репликаторы — а в конечном итоге ДНК — должны были затем получить эту роль по наследству или же узурпировать ее.
Он приводит и некоторые аргументы в пользу принципиальной возможности подобного “перехвата”. Например, каменная арка — это устойчивая структура, способная даже безо всякого цемента простоять в течение многих лет. Создать сложную структуру эволюционным путем — это все равно что построить арку без скрепляющего раствора, когда вам не разрешено класть более одного камня за раз. Наивному уму такая задача покажется невыполнимой. Арка стоит, коль скоро все камни до единого на месте, но промежуточные стадии будут неустойчивы. Построить арку, однако, довольно просто — при условии что можно не только добавлять камни, но и удалять их. Для начала следует свалить камни в плотную груду и строить арку поверх этого прочного основания. Затем, когда вся арка будет сооружена, а необходимый для ее устойчивости замковый камень водружен на ее вершину, осторожно уберем камни-подпорки, и, если нам немножко повезет, арка останется стоять. Стоунхендж кажется необъяснимым до тех пор, пока мы не сообразим, что его строители использовали какие-то подмости или, возможно, земляные пандусы, которых там больше нет. Мы видим лишь конечный результат, а об исчезнувших вспомогательных конструкциях вынуждены догадываться. Точно так же ДНК и белок — это две опоры устойчивой и изящной арки, которая готова существовать сколь угодно долго, коль скоро ее детали уже оказались все одновременно на своих местах. Трудно себе представить, как она могла возникнуть постепенно, без каких-то заранее подготовленных подмостей, которые затем полностью исчезли. Сами эти подмости тоже наверняка возникли в ходе накапливающего отбора, о природе которого мы можем теперь только гадать. Но он непременно должен был иметь дело с некими реплицирующимися объектами, обладавшими властью над собственным будущим.
Кернс-Смит предполагает, что первоначальные репликаторы представляли собой неорганические кристаллы наподобие тех, что встречаются в различных глинах и илах. Кристалл — это просто-напросто большое упорядоченное объединение атомов или молекул в твердом агрегатном состоянии. Благодаря своим свойствам, которые мы можем представить себе как их “форму”, атомы и небольшие молекулы имеют тенденцию укладываться друг относительно друга строго определенным образом. Они ведут себя, как если бы им “хотелось” встать в общий ряд так, а не иначе, но эта иллюзия воли — не более чем случайное следствие их свойств. Их “любимым” способом пристраиваться друг к другу диктуется и форма кристалла в целом. Это означает, что даже в таком крупном кристалле, как алмаз, каждая отдельно взятая часть организована в точности так же, как и любая другая, не считая возможных трещин. Если бы мы смогли уменьшиться до атомных габаритов, то увидели бы там бесконечные ряды атомов, уходящие за горизонт ровными линиями, — длинные коридоры постоянно повторяющейся геометрической формы.
Ну, поскольку мы интересуемся репликацией, то перво-наперво следует разобраться, могут ли кристаллы воспроизводить свою структуру. Кристаллы образованы несметным числом атомных слоев, каждый из которых надстраивается над предыдущим. Атомы (или ионы — разница в данном случае непринципиальна) свободно плавают в растворе, но, если им приходится вдруг натолкнуться на кристалл, имеют тенденцию оставаться на его поверхности. Раствор поваренной соли содержит ионы натрия и хлорид-ионы, которые болтаются в нем более-менее хаотично. А кристалл поваренной соли — это упорядоченная структура, где ионы натрия и хлора плотно уложены под прямыми углами друг к другу. Когда плавающим в воде ионам случается столкнуться с твердой поверхностью кристалла, они склонны на ней закрепиться. И они всегда встают в то самое положение, которое требуется, чтобы новый слой кристалла стал точным повторением предыдущего. Получается, что, однажды возникнув, кристалл растет, и его новые слои копируют своих предшественников.
Иногда кристаллы начинают образовываться в растворе самопроизвольно. В других случаях им нужна затравка — это могут быть как частички пыли, так и маленькие кристаллы, попавшие извне. Кернс-Смит предлагает нам проделать следующий опыт. Растворите большое количество гипосульфита — обычного фотографического закрепителя — в очень горячей воде. Затем остудите раствор, соблюдая меры предосторожности против случайного попадания пыли. Теперь наш раствор перенасыщен, он готов образовывать кристаллы и только того и ждет, но у него нет затравки. Привожу отрывок из “Семи подсказок о возникновении жизни” Кернса-Смита:
Осторожно снимите с мензурки крышку, бросьте на поверхность раствора крошечный кристалл гипосульфита и с изумлением наблюдайте за происходящим. Кристалл будет увеличиваться у вас на глазах, время от времени разваливаясь на куски, которые тоже мгновенно пустятся в рост… Вскоре ваша мензурка окажется битком набитой кристаллами, некоторые из которых будут достигать нескольких сантиметров в длину. Через несколько минут все прекратится. Магический раствор потеряет свою силу; впрочем, если вы хотите повторить шоу, просто снова разогрейте и охладите мензурку… Перенасыщенным называют такой раствор, в котором растворено больше, чем он в состоянии вместить… Охлажденный перенасыщенный раствор почти в буквальном смысле не знал, что делать. Ему следовало “сообщить” это, добавив кусочек кристалла, состоящего из точно таких же частиц (в количестве многих миллиардов), уже уложенных характерным для кристаллов гипосульфита образом. Раствор нужно было “засеять”.
Некоторые химические вещества способны кристаллизоваться двумя различными способами. К примеру, и графит, и алмаз — это кристаллы, состоящие из чистого углерода. Атомы в них идентичны. Два этих вещества отличаются друг от друга только геометрией укладки углеродных атомов. В случае алмаза атомы образуют тетраэдрическую конфигурацию, отличающуюся крайней стабильностью. Вот почему алмазы такие прочные. А в графите те же атомы углерода организованы в плоские шестиугольники, наложенные друг на друга. Между собой эти слои связаны слабо, благодаря чему графит скользок на ощупь и находит применение в качестве смазочного материала. К сожалению, вы не можете выкристаллизовывать алмазы из раствора, как гипосульфит. Будь иначе, вы были бы богаты; впрочем, по здравом размышлении, не были бы — ведь тогда любой дурак мог бы сделать то же самое.
Теперь представьте себе, что у нас есть перенасыщенный раствор некоего вещества, которое, подобно гипосульфиту, жаждет выпасть в осадок и, подобно углероду, может кристаллизоваться двумя различными способами. Первый способ, когда атомы, как в графите, располагаются слоями, приводит к появлению мелких и плоских кристаллов, в то время как, будучи уложены вторым способом, те же атомы дают начало кристаллам объемным, похожим на алмазы. И вот мы бросаем в наш перенасыщенный раствор два крошечных кристалла — один плоский, а другой объемный — одновременно. Рассказать о том, что будет дальше, можно, слегка дополнив описание опыта с гипосульфитом, взятое у Кернса-Смита. Вы с изумлением наблюдаете за происходящим. Оба ваших кристалла увеличиваются у вас на глазах; время от времени они разваливаются на куски, которые тоже мгновенно пускаются в рост. Плоские кристаллы дадут начало популяции плоских кристаллов, а объемные кристаллы — популяции объемных кристаллов. Если один тип кристаллов имеет обыкновение быстрее расти и чаще разламываться, чем другой, то перед нами возникнет простейшая разновидность естественного отбора. Но, чтобы этот процесс мог дать начало эволюционным изменениям, не хватает одного существенного ингредиента. Этот ингредиент — наследственная изменчивость или что-то ей аналогичное. Вместо кристаллов всего лишь двух различных типов у нас должен быть целый спектр подвариантов, которые образуют ряды повторяющих друг друга поколений и иногда “мутируют”, давая начало новым формам. Есть ли у настоящих кристаллов что-нибудь эквивалентное наследственной передаче мутаций?
Глина и камни состоят из крошечных кристаллов. На нашей планете они встречаются в изобилии, и вероятно, так было всегда. Рассматривая поверхность некоторых образцов глины и других минералов в сканирующем электронном микроскопе, можно стать свидетелем завораживающего и прекрасного зрелища. Растущие кристаллы выглядят как клумбы цветков или кактусов, как россыпи розовых лепестков или как миниатюрные спирали, напоминающие поперечные срезы растений-суккулентов. Тонкие органные трубы; сложные угловатые структуры — будто микроскопические оригами из хрусталя; змеевидные образования, похожие на выбросы дождевых червей или на выдавленную из тюбика зубную пасту… А если добавить увеличение, то упорядоченность рисунка станет еще более поразительной. На том уровне разрешения, когда уже видно местоположение отдельных атомов, поверхность кристалла выглядит организованной так же регулярно, как кусок твида с узором елочкой. Однако — и это очень важный момент — у него бывают дефекты. Прямо посередине упорядоченной “ткани” может появиться “шов”, поворачивающий ее под другим углом и задающий узору новое направление. Или же направление может оставаться прежним, но каждый следующий ряд оказывается как бы “сдвинут” относительно предыдущего. Почти всем кристаллам, встречающимся в природе, свойствен подобный “брак”. Если изъян возникает, то он имеет тенденцию воспроизводиться и в последующих слоях кристалла, нарастающих снаружи.
Дефекты могут возникать на поверхности кристалла где угодно. Если вам (как и мне) нравится размышлять о возможностях хранения информации, подумайте о том, что на кристалл можно нанести огромное количество разнообразных трещинок. Все упоминавшиеся здесь расчеты относительно того, что ДНК одной-единственной бактерии способна вместить текст Нового Завета, будут не менее впечатляющими и для большинства типов кристаллов. Преимущество ДНК перед обычными кристаллами заключается лишь в способе, каким эту информацию можно считывать. Но если не думать об извлечении данных, то разработать такой условный код, где нарушения в атомной структуре кристалла символизировали бы двоичные числа, труда не составляет. И тогда можно будет разместить несколько копий Нового Завета на куске кристаллического минерала величиной с булавочную головку. В сущности, именно таким способом, хотя и в более крупном масштабе, хранится музыкальная информация на поверхности лазерных (“компакт-”) дисков. Компьютер преобразует музыкальные звуки в двоичный код. При помощи лазера на зеркальную поверхность диска наносятся крошечные царапины. Каждое такое углубление соответствует двоичной единице (или нулю, обозначения произвольны). Во время прослушивания диска другой лазерный луч считывает расположение царапин, а специальный компьютер, встроенный в проигрыватель, преобразует код обратно в звуковые колебания, которые затем усиливаются и становятся слышимыми.
Хотя сегодня лазерные диски предназначаются главным образом для музыки, на один такой диск можно поместить целиком всю Британскую энциклопедию, а потом точно так же, при помощи лазера, считывать ее. Изъяны в расположении атомов в кристалле намного мельче углублений на поверхности лазерного диска, а значит, теоретически кристалл способен вместить больше информации на единицу площади. Между прочим, молекулы ДНК, чья информационная емкость нас уже впечатляла, сами в чем-то похожи на кристаллы. Но хотя кристаллы глины и способны в принципе хранить информацию в таких же гигантских объемах, как ДНК или лазерный диск, никому никогда не приходило в голову, что они действительно когда-либо ее хранили. В данной же теории глина и другие кристаллические минералы выступают в роли первоначальных “кустарных” репликаторов, впоследствии вытесненных высокотехнологичной ДНК. Они образуются в водах нашей планеты самопроизвольно, без помощи сложной “аппаратуры”, необходимой для синтеза ДНК, и у них самопроизвольно возникают дефекты, некоторые из которых могут реплицироваться в последующих слоях кристалла. Если от кристалла с такой воспроизводимой структурой впоследствии отваливаются кусочки, то они могут служить затравкой для новых кристаллов, каждый из которых “унаследует” структуру своего “родителя”.
Итак, перед нами гипотетический образ кристаллических минералов на молодой Земле, в какой-то мере способных к репликации, размножению, наследственной передаче признаков и мутациям — всему тому, без чего накапливающий отбор начаться не может. Не хватает, однако, еще одного ингредиента — “власти”: природа репликаторов должна каким-то образом влиять на вероятность того, что они будут реплицированы. Говоря о репликаторах вообще, мы видели, что эта “власть” может зиждиться на непосредственных свойствах самого репликатора, на неотъемлемых от него самого качествах типа “липучести”. На таком примитивном уровне слово “власть” кажется едва ли оправданным, и я использую его здесь, только помня о том, чем этот ингредиент станет на последующих стадиях эволюции. Например, способностью змеиного яда (посредством косвенного влияния на выживаемость змеи) распространять ДНК, кодирующую его образование. Чем бы ни были самые первые топорные репликаторы — минералами или непосредственными органическими предшественниками ДНК, — можно предположить, что их “власть” проявлялась за счет таких прямых и примитивных качеств, как липучесть. Более совершенные рычаги власти вроде змеиных зубов или цветков орхидей появились значительно позже.
Какого рода “власть” возможна применительно к глине? Какие случайные свойства глины могли бы повлиять на вероятность того, что данная ее разновидность будет распространяться по окрестностям? Такие “строительные блоки” для глины, как кремниевая кислота и ионы металлов, растворены в воде рек и ручьев, будучи вымытыми — “выветрившимися” — из горных пород, расположенных выше по течению. А ниже по течению они при определенных условиях могут снова выпасть в осадок и образовать глину. (Под “течением” в данном случае подразумевается скорее просачивание и струение грунтовых вод, нежели вольный ход бурлящей реки. Но для простоты повествования я буду использовать общепринятые слова, такие как “течение”.) То, будет выпадать в осадок данный тип кристаллов глины или нет, зависит в числе прочего от скорости и характера движения потока. Однако глинистые отложения сами могут влиять на характеристики потока. Они делают это непроизвольно, изменяя уровень, геометрию и текстуру почвы, сквозь которую течет вода. Представьте себе некую разновидность глины, одним из свойств которой оказалась способность трансформировать структуру почвы таким образом, чтобы скорость течения увеличивалась. В результате этой своей способности наша глина снова будет смыта потоком. Такой сорт глины по определению не слишком “успешен”. Неудачливой будет и та глина, которая так преобразует поток, что создаются благоприятные условия для отложения другой, конкурентной разновидности.
Мы, разумеется, не имеем в виду, будто у глины есть “воля” к жизни. Речь неизменно идет только о случайных последствиях, о событиях, которые просто вытекают из тех свойств, которыми репликатору посчастливилось обладать. Теперь давайте представим себе еще одну разновидность глины. Ту, которая замедляет поток таким образом, что это стимулирует дальнейшее отложение глины того же типа. Очевидно, что этот вариант будет становиться все более распространенным, поскольку так вышло, что он управляет течением себе на “пользу”. Однако пока что мы имеем дело только с одноступенчатым отбором. А может ли тут начаться накапливающий отбор в какой-либо форме?
Зайдем в своих спекуляциях еще немножко дальше и представим себе, как некая разновидность глины увеличивает вероятность своего осаждения, перегораживая поток. Это происходит непроизвольно, вследствие какого-то специфического дефекта ее структуры. В любом ручье, где есть такая глина, образуются мелкие широкие заводи со стоячей водой, а основной поток сворачивается воздвигающейся плотиной в сторону. В этих тихих запрудах откладывается еще больше подобной глины. Вдоль по течению ручья, “зараженного” ее затравочными кристаллами, вскоре образуется целый ряд неглубоких водоемов. Ну а поскольку основное русло изменилось, в засушливый сезон такие водоемы будут иметь обыкновение пересыхать. Подсохшая глина растрескивается на солнце, и ее верхние слои уносятся ветром в виде пыли. Каждая пылинка наследует специфическую структуру породившей ее глины, запрудившей поток, — ту самую структуру, которая сообщила глине способность создавать запруды. По аналогии с генетической информацией, сыплющейся на поверхность канала с моей ивы, можно сказать, что данная пыль содержит “инструкции” по перегораживанию ручьев и в конечном итоге — по образованию еще большего количества пыли. Пылинки разлетаются во все стороны, и весьма вероятно, что каким-то из них доведется упасть в другой ручей, доселе еще не “зараженный” затравочными кристаллами плотинообразующей глины. Как только это произойдет, в новом ручье начнется рост соответствующих кристаллов, и весь цикл осаждения, запруживания, высыхания и выветривания повторится заново.
Назвать такой цикл “жизненным” было бы, возможно, чересчур, но тем не менее это своего рода цикл, и с настоящими жизненными циклами его сближает способность давать начало накапливающему отбору. Раз ручьи “заражаются” пылью, принесенной от других ручьев, значит, мы можем рассортировать их на “предков” и “потомков”. Глина, перегородившая ручей Б, прилетела в виде крошечных кристаллов от ручья А. Впоследствии запруды на ручье Б пересохнут и образуют пыль, которая заразит ручьи П и Ф. Основываясь на источнике происхождения плотинообразующей глины в каждом ручье, можно выстраивать “генеалогию” ручьев. У каждого зараженного ручья имеется свой “родитель” и может быть более одного “потомка”. Ручей здесь играет роль организма, на “развитие” которого влияют “гены” затравки и который затем служит для распространения новых затравочных кристаллов. Каждое “поколение” такого цикла начинается с того, что эти кристаллы отпочковываются от родительского ручья в форме пылинок. Кристаллическая структура каждой пылинки копирует структуру глины в родительском ручье и сообщает ее глине ручья-потомка, которая будет расти, множиться и в конце концов — разбрасывать новую порцию “семян”.
Исходная кристаллическая структура будет сохраняться из поколения в поколение до тех пор, пока в ходе роста какого-то из кристаллов не произойдет ошибка — изредка случающееся изменение взаимного расположения атомов. В последующих слоях этого кристалла данный дефект будет воспроизводиться, и если наш кристалл развалится на куски, то тем самым он даст начало субпопуляции видоизмененных кристаллов. Ну а если возникшее изменение повлияет в ту или иную сторону на эффективность участия кристалла в цикле “запруживание/высыхание/выветривание”, то это скажется и на том, какое количество его копий передастся следующим “поколениям”. Например, видоизмененные кристаллы могут легче разламываться (“размножаться”). Или глина, образующаяся из таких кристаллов, будет более эффективно перекрывать течение (конкретные механизмы тут могут быть самыми разными). А может быть, она будет более предрасположена к растрескиванию под воздействием солнца. Или к рассыпанию в пыль. Пылинки глины нового типа могут легче переноситься по воздуху, как, скажем, пушистые семена ивы. Какие-то типы кристаллов могли бы вызывать укорачивание “жизненного цикла” и, как следствие, ускорять “эволюцию”. В таком ряду “поколений” есть много возможностей для постепенного “усовершенствования” способности передаваться от предков к потомкам. Другими словами, много возможностей для того, чтобы элементарный накапливающий отбор принялся за дело.
Этот небольшой полет фантазии, развивающий фантазии самого Кернса-Смита, касался только одного типа тех неорганических “жизненных циклов”, какие в принципе могли поставить накапливающий отбор на рельсы, ведущие к великим свершениям. Есть и другие. Так, какие-то разновидности кристаллов могли получить доступ к новым ручьям, не распадаясь на пылинки-“семена”, а разделяя поток на множество мелких ручейков, разбегающихся по окрестностям и заражающих новые водные системы. Другие разновидности могли благоприятствовать возникновению водопадов, ускоряющих вымывание горных пород и растворение “полуфабрикатов”, необходимых для образования глины ниже по течению. Третьи могли поставить себя в выигрышное положение, создавая условия, неблагоприятные для образования “соперничающих” разновидностей, конкурирующих с ними за сырье. Четвертые могли заняться “хищничеством”, разрушая соперников и используя в качестве сырья их составные части. Не будем ни на секунду забывать о том, что ни здесь, ни в случае современной жизни, основанной на ДНК, и речи нет о преднамеренном планировании. Просто само собой выходит так, что мир стремится быть заполненным теми разновидностями глины (и ДНК), у которых оказались качества, позволяющие им сохраняться и распространяться.
Пора переходить к следующему этапу рассуждений. Некоторые “линии” кристаллов могли оказаться катализаторами для синтеза других веществ, облегчавших им переход в следующее “поколение”. Эти вспомогательные соединения не формировали (по крайней мере поначалу) свои собственные ряды поколений, а создавались каждым очередным поколением первичных репликаторов заново. Их можно считать инструментами для реплицирующихся кристаллов — зачатками первых “фенотипов”. Кернс-Смит полагает, что среди нереплицирующегося “инструментария” неорганических кристаллических репликаторов особую роль играли молекулы органических веществ. Органические соединения часто используются при промышленном неорганическом синтезе, поскольку они влияют на текучесть жидкостей, а также на дезинтеграцию и рост неорганических частиц — то есть на все те параметры, которые могут оказаться важными для “успеха” реплицирующихся кристаллов. К примеру, встречающийся в составе глин минерал с чарующим названием “монтмориллонит” склонен разрыхляться в присутствии небольших количеств органического соединения с менее чарующим названием “карбоксиметилцеллюлоза”. А меньшие количества карбоксиметилцеллюлозы оказывают при этом противоположный эффект, помогая частицам монтмориллонита удерживаться вместе. Другие органические соединения, танины, используются в нефтяной промышленности, чтобы облегчать бурение. Если нефтяники могут использовать органические молекулы, чтобы регулировать вязкость бурового раствора, то не было никакой причины, по которой накапливающий отбор не мог бы привести к их аналогичному использованию и у способных к самовоспроизводству минералов.
Здесь теория Кернса-Смита получает нечто вроде бесплатной прибавки в убедительности. Так вышло, что другие химики, придерживающиеся более традиционной теории органического “первичного бульона”, уже давно допускают, что глинистые минералы могли оказаться кстати. Процитирую одного из них (Д. М. Андерсона): “Широко признано, что некоторые, а возможно многие, абиотические химические реакции и процессы, приведшие к появлению на Земле реплицирующихся микроорганизмов, протекали в ранний период существования нашей планеты в непосредственной близости от глинистых минералов и других неорганических субстратов”. Далее этот автор называет пять “функций” глинистых минералов, которые могли способствовать появлению жизни на органической основе, такие как, например, “концентрация химических реагентов благодаря адсорбции”. Нам нет нужды ни перечислять все пять, ни даже понимать их. Для нас здесь важно то, что каждая из этих пяти “функций” глинистых минералов действует в обе стороны. Ведь из всей этой аргументации следует, что органический синтез и глинистая поверхность могут быть тесно взаимосвязаны. А значит, это добавляет веса теории о том, что репликаторы из глины синтезировали органические молекулы и использовали их для своих целей.
Кернс-Смит более подробно, чем я могу себе позволить здесь, обсуждает то, какое первоначальное применение могли найти первые кристаллические репликаторы белкам, сахарам и, что важнее всего, нуклеиновым кислотам, в частности РНК. Он предполагает, что поначалу РНК использовалась в целях исключительно структурных — как бурильщики нефтяных скважин используют танины или как все мы используем мыло и стиральный порошок. Благодаря своему отрицательно заряженному каркасу молекулы, подобные РНК, стремятся образовывать вокруг частичек глины наружную оболочку. Все это уводит нас в область химии, лежащую за пределами нашей компетенции. Для нас здесь важно только то, что РНК — или что-то на нее похожее — имелась в немалых количествах еще задолго до того, как обрела способность реплицироваться самостоятельно. Когда же это наконец произошло, то ее саморепликация возникла как приспособление, выработанное минеральными “генами” для повышения эффективности производства РНК. Но, как только появилась на свет новая самовоспроизводящаяся молекула, сразу же появилась возможность и для новой разновидности накапливающего отбора. Будучи поначалу на вторых ролях, новые репликаторы оказались настолько эффективнее прежних кристаллов, что одержали над ними верх. В ходе дальнейшей эволюции они довели теперь известный нам генетический код ДНК до совершенства. Исходные неорганические репликаторы были отброшены, как отслужившие свое строительные леса, а вся современная жизнь произошла от относительно недавнего общего предка и имеет единую, унифицированную генетическую систему и во многом единую биохимию.
В “Эгоистичном гене” я высказал предположение, что сейчас мы, возможно, стоим на пороге нового генетического “перехвата власти”. ДНК-репликаторы строят для себя “машины выживания” — тела живых организмов, в том числе и наши с вами. В числе прочего оборудования у этих машин возник и бортовой компьютер — головной мозг. У мозга выработалась способность обмениваться информацией с другими мозгами при помощи языка и культурных традиций. Однако эта новая культурная среда создает новые возможности для возникновения самовоспроизводящихся объектов. Новые репликаторы — это не ДНК и не кристаллы глины. Это информационные блоки, способные благоденствовать только в головном мозге и в его искусственных производных: книгах, компьютерах и т. п. Но если мозги, книги и компьютеры уже существуют, то новые репликаторы — которые я назвал мемами, чтобы отличать их от генов, — могут передаваться от мозга к мозгу, от мозга к книге, от книги к мозгу, от мозга к компьютеру, от компьютера к компьютеру. По ходу своего распространения они могут изменяться — мутировать. И не исключено, что “мутантные” мемы способны оказывать такого рода воздействия, которые я здесь называю “властью репликаторов”. Напоминаю, что под этим имеется в виду любой эффект, который влияет на вероятность их распространения. Эволюция под воздействием этих новых репликаторов — меметическая эволюция — переживает пока что период своего младенчества. Проявляется она в том, что принято называть эволюцией культуры. Эволюция культуры идет на несколько порядков быстрее, чем эволюция, основанная на ДНК, что еще больше наводит на мысли о “перехвате власти”. И если репликаторы нового типа действительно затевают переворот, то вполне можно себе представить, что они зайдут так далеко, что породившая их ДНК (вместе с их бабушкой глиной, если Кернс-Смит прав) останется далеко позади. В таком случае можно не сомневаться, что уж компьютеры-то на обочине не останутся.
Быть может, однажды в далеком будущем разумные компьютеры задумаются о тайне своего происхождения. И кто знает, вдруг одного из них осенит крамольная мысль, что они ведут свое начало от совершенно иной, более древней формы жизни, основывавшейся не на кремниевой электронике, как они, а на органической, углеродной химии. Будет ли у роботов свой Кернс-Смит, который напишет книгу под заголовком “Электронный перехват”? Сумеет ли он подобрать какой-нибудь кибернетический аналог метафоры про арку и осознать, что компьютеры не могли возникнуть самопроизвольно и были порождены некоей более ранней разновидностью накапливающего отбора? Сможет ли он додуматься до деталей и воссоздать ДНК — этот гипотетический древний репликатор, павший жертвой электронной узурпации? И будет ли он достаточно прозорлив, чтобы догадаться, что и сама ДНК была узурпатором, отнявшим власть у еще более загадочных и древних репликаторов — кристаллических силикатов? Если он будет отличаться поэтическим складом мышления, то, возможно, усмотрит даже своеобразную справедливость в том, что жизнь вернулась к своим кремниевым формам, а ДНК была всего лишь интермедией, хотя и продлившейся больше трех эонов.
Это все уже из области научной фантастики и может показаться надуманным. Но не суть важно. Важнее, что и сама “глинистая” теория Кернса-Смита, и более традиционная теория органического первичного бульона могут выглядеть надуманными и малоубедительными. Не кажутся ли вам обе эти теории страшно неправдоподобными? Не считаете ли вы мистикой то, что хаотично двигающиеся атомы объединились в молекулу, способную к копированию себя самой? Я-то время от времени считаю. Однако давайте взглянем на проблему чудес и неправдоподобия более пристально. Я собираюсь доказать вам один парадоксальный, но оттого лишь более интересный тезис. Заключается он в том, что если бы происхождение жизни не казалось нашему человеческому сознанию чем-то сверхъестественным, то нам, ученым, следовало бы даже слегка забеспокоиться. Теория, кажущаяся обыденному человеческому пониманию невероятной, — это именно то, что нам нужно, когда речь идет о возникновении жизни. Этой теме, по сути, сводящейся к вопросу “что считать чудом?”, будет посвящен остаток главы, которую вы читаете. В каком-то смысле мы разовьем начатые ранее рассуждения о миллиардах планет.
Итак, что же мы называем чудесами? Чудо — это то, что происходит, но является чрезвычайно удивительным. Если мраморная статуя девы Марии вдруг помашет нам рукой, мы должны будем счесть это за чудо, поскольку весь наш опыт и все наши знания говорят нам, что мрамор не ведет себя подобным образом. Я только что выругался: “Разрази меня гром!” Если бы в меня тут же ударила молния, это можно было бы расценить как чудо. Однако ни то ни другое событие не является абсолютно невозможным с научной точки зрения. Их следует считать всего лишь крайне маловероятными, причем первое — намного более невероятным, чем второе. Молнии ударяют в людей. Любого из нас может ударить молнией, но в каждую конкретную минуту вероятность этого довольно низка (впрочем, в “Книге рекордов Гиннесса” есть прелестное фото одного мужчины из Виргинии, которого прозвали “человеком-громоотводом”, госпитализированного после седьмого удара молнией с выражением ужаса и изумления на лице). Чудесным в моей гипотетической истории является только совпадение между ударом молнии в меня и тем, что я призвал на свою голову это несчастье.
Совпадение — это множественная невероятность. В любую отдельно взятую минуту моей жизни вероятность того, что в меня ударит молния, составляет, даже если брать с запасом, всего лишь 1 к 10 млн. Вероятность того, что я стану призывать на себя громы и молнии, также в каждую конкретную минуту очень невелика. За прожитые мною к настоящему моменту 23 400 000 минут я сделал это всего однажды и сомневаюсь, что придется когда-либо еще, так что давайте оценим шансы как 1 к 25 млн. Чтобы рассчитать вероятность совпадения обоих этих событий в любую конкретную минуту моей жизни, надо перемножить их вероятности между собой. По моим грубым подсчетам, это будет где-то один к 250 трлн. Случись со мной столь невероятное совпадение, я решил бы, что это чудо, и в дальнейшем попридержал бы язык. Но, пусть вероятность такого совпадения крайне мала, мы все же можем ее вычислить. Она не равна в буквальном смысле нулю.
Что же касается мраморной статуи, то молекулы мрамора непрерывно перемещаются туда-сюда в случайных направлениях. Движения различных молекул гасят друг друга, и потому в целом рука статуи остается неподвижной. Однако, если по чистой случайности все молекулы одновременно переместятся в одном и том же направлении, рука пошевелится. Если потом они точно так же одновременно двинутся обратно, рука вернется на место. Ровно в такой степени это возможно. Мраморная статуя может помахать нам. Вероятность такого совпадения невообразима, но не неисчислима. Один наш физик любезно рассчитал ее для меня. Всего времени, которое существует Вселенная, не хватит, чтобы записать все нули у получившегося числа. Примерно с такой же степенью вероятности корова может перепрыгнуть через луну. Вывод на этом этапе рассуждений следует такой: наши вычисления способны зайти в область чудесного гораздо дальше наших представлений о том, что считать правдоподобным.
Давайте-ка задержимся на этом вопросе: что мы считаем правдоподобным? Вещи, которые мы можем счесть таковыми, представляют собой узенькую полоску посередине широкого спектра тех событий, которые на самом деле могут случиться. Порой она более узка и по сравнению со спектром тех событий, которые действительно имеют место. Тут хорошо подойдет следующая аналогия. Наши глаза приспособлены иметь дело с узким диапазоном электромагнитных частот (тех, что мы называем светом), находящихся где-то посередине широкого спектра с длинными радиоволнами на одном конце и с коротковолновыми рентгеновскими лучами на другом. Мы не видим лучей, располагающихся за пределами нашей узенькой полоски, однако мы можем производить расчеты с ними и создавать инструменты, которые их улавливают. Точно так же нам известно, что масштабы пространства и времени сильно превосходят область того, что мы в состоянии себе отчетливо представить, — как с большей, так и с меньшей стороны. Нашему разуму неподвластны огромные дистанции, с которыми имеет дело астрономия, и малые расстояния, которыми занимается ядерная физика, но мы можем изобразить их в виде математических символов. Наш разум не может представить себе период времени длиной в пикосекунду, но мы в состоянии производить вычисления с пикосекундами и создавать компьютеры, которые производят вычисления за пикосекунды. Не может он представить себе и периода времени длиной в миллион лет, не говоря уже о тех тысячах миллионов лет, которые геологи ежедневно используют в своих расчетах.
Подобно тому как наши глаза видят только ту узкую часть спектра электромагнитных излучений, к которой приспособлены естественным отбором, наш мозг тоже устроен так, чтобы понимать расстояния во времени и пространстве только в пределах узкой полоски значений. Можно предположить, что у наших предков не было необходимости иметь дело иметь дело со значениями, выходящими за рамки повседневной пользы, и потому у мозга никогда не вырабатывалась способность представлять себе эти значения. Вероятно, неспроста размер нашего тела длиной в несколько футов находится приблизительно посередине диапазона тех расстояний, которые мы в состоянии вообразить. А продолжительность нашей жизни длиной в несколько десятилетий примерно посередине диапазона сроков, которые мы можем себе представить.
То же самое можно сказать и по поводу всяческих невероятностей и чудес. Давайте мысленно нарисуем градуированную шкалу невероятностей, аналогичную шкале размеров от атомов до галактик или временнóй шкале от пикосекунд до эонов. Нанесем на нее несколько отметок. На крайней левой точке этой шкалы располагаются события, которые произойдут практически наверняка, — например, завтрашний восход солнца, предмет заключенного Г. Х. Харди пари на полпенни. Неподалеку от этой крайней точки будут находиться те явления, что лишь слегка невероятны, например выпадение сразу двух шестерок на паре игральных костей. Вероятность этого события составляет 1: 36. Подозреваю, что с каждым из нас оно происходило довольно часто. Следующей отметкой, которую мы нанесем, двигаясь в правую сторону спектра, будет вероятность идеального расклада в бридже, когда каждый из четырех игроков получает все карты одной масти. Вероятность такого события составляет 1: 2 235 197 406 895 366 368 301 559 999. Давайте назовем это число как “один раскладион” — единица невероятности. Если событие, невероятность которого равняется одному раскладиону, произойдет именно тогда, когда будет предсказано, мы должны будем констатировать чудо или, что вернее, заподозрить мошенничество. Но оно может произойти и при честной игре, и это во много-много-много раз вероятнее того, что нам помашет мраморная статуя. Тем не менее, как мы видели, и у этого последнего события есть свое законное место на шкале того, что может произойти. Вероятность его измерима, хотя и измеряется она в единицах куда более крупных, чем гигараскладионы. Между выбрасыванием двух шестерок при игре в кости и идеальным раскладом в бридже располагается целый ряд более или менее невероятных событий, которые время от времени случаются: удар молнии в конкретного человека, крупный выигрыш в футбольном тотализаторе, попадание в лунку в гольфе с одного удара и тому подобное. Где-то в этом же ряду находят себе место и те зловещие совпадения, что заставляют нас покрываться мурашками, — например, когда мы видим во сне какого-то человека, о существовании которого до этого не вспоминали десятилетиями, а потом узнаем, что в ту же самую ночь он умер. Однако, как бы ни впечатляли нас такие жуткие совпадения, когда они происходят с нами или с кем-то из наших друзей, их невероятность измеряется всего лишь пикораскладионами.
Теперь, построив нашу координатную ось невероятностей с нанесенными на нее ориентировочными вехами, давайте наведем прожектор на тот ее отрезок, который мы способны охватить разумом в наших обыденных мыслях и разговорах. Освещенный отрезок будет аналогичен тому узкому участку спектра электромагнитных излучений, который могут видеть наши глаза, и тому узкому диапазону размеров и времен, которые мы в состоянии себе представить. На всем спектре невероятностей луч света выхватит только узенькую полоску от крайней левой точки (несомненные факты) до небольших чудес вроде попадания в лунку с первого раза или сна, оказавшегося “в руку”. За пределами этой полоски останется еще огромный диапазон математически исчислимых невероятностей.
Естественный отбор наделил наш мозг способностью оценивать вероятности и риски, точно так же как он наделил наши глаза способностью оценивать длины электромагнитных волн. Мы приспособлены мысленно рассчитывать шансы и возможности в пределах того диапазона невероятностей, который может пригодиться в человеческой жизни, средние риски такого порядка, как, скажем, забодает ли нас буйвол, после того как мы выстрелим в него из лука, ударит ли в нас молния, если мы спрячемся от грозы под высоким деревом, утонем ли мы в реке, если попытаемся переплыть ее. Эти приемлемые риски соизмеримы с продолжительностью нашей жизни, занимающей несколько десятков лет. Если бы у нас была биологическая возможность, а заодно и желание прожить миллион лет, мы должны были бы оценивать риски совершенно иначе. Например, мы бы взяли за правило никогда не переходить через дорогу, потому что если делать это ежедневно в течение полумиллиона лет, то непременно попадешь под колеса.
Эволюция оснастила наши мозги таким субъективным пониманием рискованного и невероятного, которое подходит для существ с продолжительностью жизни менее века. Нашим предкам постоянно приходилось принимать решения, связанные с риском и с вероятностями, и потому естественный отбор наделил головной мозг человека способностью оценивать вероятность того, что может произойти за то короткое время, которое мы тем не менее предполагаем прожить. Если у обитателей какой-то другой планеты продолжительность жизни составляет миллион веков, тогда и их представление о допустимых рисках будет покрывать значительно больший отрезок нашего континуума. Они будут исходить из того, что время от времени им может выпасть полная масть в бридже, и едва ли сочтут такое событие достойным упоминания в письме к родным. Но даже они потеряют дар речи, если мраморная статуя помашет им рукой, потому что, чтобы стать свидетелем чуда такой степени, нужно жить еще на много раскладионов лет дольше.
При чем же тут теории о происхождении жизни? При том, что, как мы говорили вначале, и теория Кернса-Смита, и теория первичного бульона кажутся нам слегка надуманными и невероятными. Вот почему мы ощущаем естественное желание отвергнуть их. Но не будем забывать, что “мы” — это существа, чей мозг приспособлен считать допустимыми те риски, которые занимают крошечный отрезок, выглядящий как точка на левом краю математического континуума исчисляемых рисков. Наши субъективные суждения о том, что такое “наверняка”, не имеют отношения к тому, что произойдет наверняка на самом деле. У инопланетянина, живущего миллион столетий, субъективное суждение на этот счет может во многом не совпасть с нашим. Такое событие, как возникновение первой способной к самоудвоению молекулы, постулируемое некоторыми химиками, он сочтет вполне возможным, в то время как нам, экипированным эволюцией для того, чтобы действовать в мире, который просуществует лишь несколько десятков лет, оно покажется невообразимым чудом. Как же решить, чья точка зрения правильная: наша или инопланетянина-долгожителя?
Ответить на этот вопрос несложно. В том, что касается правдоподобия теорий типа той, которую выдвинул Кернс-Смит, или теории первичного бульона, верной будет точка зрения нашего долгоживущего инопланетянина. Почему? Потому что в этих теориях постулируется событие особого рода, случающееся однажды в миллиард лет, один раз за эон, — спонтанное возникновение самореплицирующегося объекта. Между образованием Земли и появлением первых ископаемых, напоминающих бактерии, лежит промежуток времени в полтора эона. Для наших мозгов, мыслящих категориями десятилетий, событие, случающееся один раз за эон, — это такая редкость, что воспринимается как совершеннейшее чудо. Но нашему инопланетянину-долгожителю оно покажется меньшим чудом, чем для нас попадание в лунку при игре в гольф с первого удара. А ведь большинство из нас, вероятно, знает кого-нибудь, кто знает кого-нибудь, кто однажды попал в лунку с первого удара. Субъективная шкала времени долгоживущего инопланетянина лучше подходит для оценки теорий о возникновении жизни, поскольку возникновение жизни происходит примерно на той же самой временнóй шкале. Наше с вами субъективное мнение насчет правдоподобия той или иной теории возникновения жизни будет неверно с коэффициентом ошибки, равным 100 млн.
На самом деле наше субъективное суждение будет, вероятно, даже еще более ошибочным. Ведь наш мозг приспособлен оценивать возможность тех или иных событий не только на коротком промежутке времени, но и для узкого круга знакомых нам людей. Это связано с тем, что наш мозг формировался в тех условиях, когда средства массовой информации еще не властвовали над миром. Что означает массовое оповещение? Это означает, что, когда с кем-либо где-либо в мире произойдет что-либо невероятное, мы все прочитаем об этом в газетах или в “Книге рекордов Гиннесса”. Если кто-нибудь, выступая перед слушателями, воскликнет, что, дескать, пусть его поразит молния, если он лжет, и будет в ту же минуту поражен ею, мы прочтем об этом и довольно-таки впечатлимся. Однако на свете есть несколько миллиардов человек, с которыми такое совпадение могло бы произойти, а значит, оно было совсем не так велико, как кажется. По всей вероятности, природа наделила наш мозг способностью оценивать риски того, что может случиться непосредственно с нами, ну и еще с несколькими сотнями человек из нескольких окрестных деревень, откуда наши жившие племенами предки могли узнавать новости. Когда мы читаем в газете об удивительном совпадении, произошедшем с кем-нибудь из Вальпараисо или из Виргинии, на нас это производит большее впечатление, чем оно того заслуживает. Возможно, большее в 100 млн раз: именно таково соотношение между всем мировым населением, о котором пишут газеты, и численностью племени, от которого наш мозг “ожидает” получать информацию.
Такие “популяционные” расчеты точно так же применимы и к нашей оценке правдоподобия теорий о происхождении жизни. Только в данном случае речь идет не о численности земного населения, а о численности планет во Вселенной — тех планет, на которых жизнь могла бы зародиться. Этот довод уже приводился в начале данной главы, так что здесь я не буду подробно на нем останавливаться. Давайте еще раз вернемся к нашей мысленной мерной шкале невероятных событий, на которой в качестве ориентирных отметок использовались карточные расклады и броски игральных костей. Отметим на этой шкале, градуированной раскладионами и микрораскладионами, еще три точки: вероятность возникновения жизни на планете (скажем, за миллиард лет), если исходить из допущения, что жизнь возникает с частотой примерно один раз на планетную систему; вероятность возникновения жизни на планете, если приблизительная частота этого события — один раз на галактику, и вероятность возникновения жизни на случайно выбранной планете, если жизнь возникала во всей Вселенной лишь однажды. Обозначим эти три точки соответственно как Число Планетной Системы, Галактическое Число и Число Вселенной. Вспомним, что всего в мире где-то 10 000 млн галактик. Сколько всего на свете планетных систем, неизвестно, поскольку мы можем видеть только звезды, а не планеты, но прежде мы уже пользовались оценкой, согласно которой во Вселенной может быть около 100 миллиардов миллиардов планет.
Оценивая невероятность события, постулируемого, к примеру, теорией Кернса-Смита, мы должны исходить не из своих субъективных представлений о вероятном и невероятном, а из чисел, сопоставимых с этими тремя: Числом Планетной Системы, Галактическим Числом и Числом Вселенной. Ответ на вопрос, какое из трех подойдет лучше, зависит от того, какое из следующих утверждений мы считаем наиболее близким к истине.
Жизнь возникла только на одной планете во всей Вселенной (и следовательно, как мы уже аргументировали, этой планетой непременно является Земля).
Жизнь возникала примерно по одному разу в каждой галактике (в нашей галактике счастливый билет вытянула Земля).
Возникновение жизни — событие достаточно вероятное для того, чтобы происходить в среднем по одному разу на каждую планетную систему (так, в Солнечной системе удача улыбнулась Земле).
Эти три утверждения являются своего рода тремя контрольными точками в континууме взглядов на уникальность жизни. Истина находится, вероятно, где-нибудь между двумя крайностями, представленными в утверждениях 1 и 3. Почему я так считаю? В частности, почему мы вычеркиваем четвертую возможность, что возникновение жизни — это намного более вероятное событие, чем предполагается в утверждении 3? Дело в том, что будь оно так, будь возникновение жизни событием значительно более вероятным, чем можно предположить, исходя из Числа Планетной Системы, тогда к настоящему моменту мы должны были бы уже столкнуться с внеземными формами жизни — если не во плоти (что бы под этим ни подразумевалось), то хотя бы по радио. Не самый сильный аргумент, но уж какой есть.
Нередко указывается на то, что все попытки химиков воссоздать спонтанное возникновение жизни в лаборатории были неизменно неудачными. Этот факт трактуется так, как будто он опровергает те теории, которые химики пытались проверить. Но на самом деле стоило бы забеспокоиться, если бы получить жизнь в пробирке оказалось легким делом. Ведь химические эксперименты длятся годы, а не тысячи миллионов лет, и проводят эти эксперименты всего несколько химиков, а не тысячи миллионов. Если бы самопроизвольное зарождение жизни было событием достаточно вероятным, чтобы произойти за те несколько человеко-десятилетий, что были потрачены на эти химические опыты, это означало бы, что жизнь возникала неоднократно как на Земле, так и на многих планетах, находящихся в пределах досягаемости земных радиосигналов. Эти рассуждения, разумеется, не учитывают важного вопроса о том, насколько точно химикам удалось воспроизвести условия молодой Земли. Но, даже если признать, что ответа на этот вопрос мы не знаем, вся наша аргументация тем не менее останется в силе.
Если бы возникновение жизни было событием по нашим повседневным человеческим меркам вероятным, тогда на многих планетах, находящихся в зоне досягаемости радиосигнала, радио было бы уже изобретено достаточно давно (если учитывать, что радиоволны распространяются со скоростью 186 тыс. миль в секунду), чтобы за те десятилетия, в течение которых мы можем улавливать радиосообщения из космоса, мы уловили хотя бы одно. Если исходить из допущения, что инопланетяне изобрели радиотехнологии так же недавно, как и мы, то и тогда мы могли бы уже получить сигналы от примерно 50 звезд. Однако полвека — это лишь скоротечный миг, и было бы невероятным совпадением, если бы другие цивилизации развивались до такой степени синхронно с нашей. Если мы включим в свои вычисления те цивилизации, где радио было изобретено 1 тыс. лет назад, тогда количество звезд (со всеми планетами, вращающимися вокруг каждой из них), от которых до нас мог бы дойти сигнал, приблизится уже к миллиону. А если учесть и тех, кто изобрел радио 100 тыс. лет назад, то радиосигналы приходили бы к нам со всей галактики с ее триллионом звезд. Понятно, что при вещании на столь чудовищные расстояния сигнал доходил бы уже в изрядно ослабленном виде.
И вот мы приходим к следующему парадоксу. Если какая-либо теория о возникновении жизни будет достаточно “правдоподобна” для того, чтобы удовлетворять нашим субъективным представлениям о правдоподобии, тогда она окажется слишком “правдоподобной”, чтобы быть в состоянии объяснить всю ту безжизненность, какую мы наблюдаем во Вселенной. В соответствии с этим та теория, которую мы ищем, просто обязана казаться неправдоподобной нашему ограниченному воображению, привязанному к Земле и к нашей короткой жизни. Глядя под таким углом, можно и теорию Кернса-Смита, и теорию первичного бульона заподозрить в излишнем правдоподобии! Теперь, после всего, что я сказал, мне следует тем не менее сознаться: во всех этих расчетах столько неточностей и допущений, что, если бы какому-нибудь химику все же удалось получить самопроизвольное зарождение в пробирке, меня бы это отнюдь не обескуражило!
Мы по-прежнему не знаем, как именно начался на Земле естественный отбор. И данная глава преследовала лишь скромную цель показать, какого рода способом это должно было произойти. На сегодняшний день единая общепринятая теория возникновения жизни отсутствует, но это ни в коем случае не должно быть камнем преткновения для дарвиновского мировоззрения в целом, как некоторые — возможно, с надеждой — полагают. В предыдущих главах мы избавились от других таких мнимых затруднений, а в следующей уберем с дороги еще одно: мысль, будто естественный отбор может только разрушать и совершенно не способен к созиданию.
Назад: Глава 5 Власть и архивы
Дальше: Глава 7 Созидательная эволюция

