Татьяна Дагович
Зернышко граната
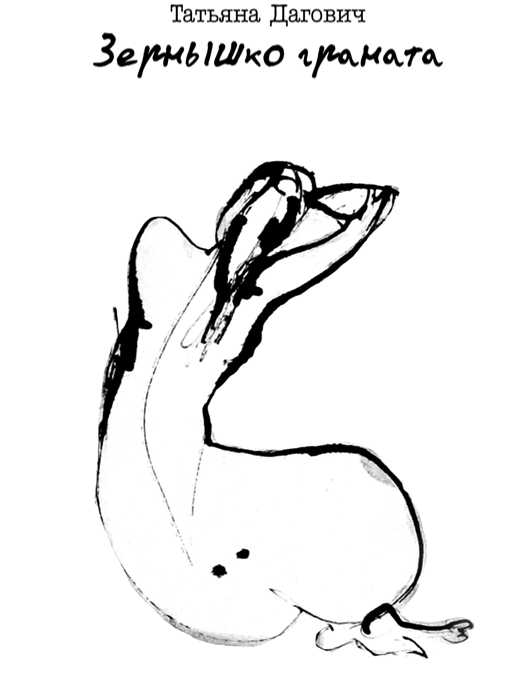
Серые клубы дыма над водой.
— Не кричи, ты разбудишь теней, — сказал ей тихо муж, и Персефона закричала шепотом:
— Все решено на этот раз. Все. Я больше терпеть не собираюсь. Я ухожу к маме.
— К маме… — повторил Аид спокойно. Лицо его оставалось таким, как всегда — жесткие губы слегка искривлены, как от брезгливости. — Все к тому шло. Такая теща.
— Она всегда говорила, что ты гад.
— Гадес, — поправил он, — это мое любимое имя. Но я чаще пользуюсь вторым. А потом спросил, скорее себя, чем Персефону, или даже не спросил — проговорил: — Почему всегда она… Мне казалось, что тебе было хорошо со мной. Очень хорошо. Но как только она позвала, ты нашла повод… Останься со мной, Персефона, не оставляй меня одного. Я тебя люблю. Твоя родительница может приходить к нам, когда захочет, пусть убедится, что с тобой все в порядке и снова расцветет морковка…
— Со мной ничего не в порядке! Я никогда не скрывала, как ненавижу это твое, как ты его называешь, царство. А ты такой же, как оно. Да, мне было хорошо, да… Но это освещение… Почему у тебя вечная темень? Ведь это ты так устроил все. Я всего лишь хотела… посадить… хоть ирис, хоть фиалку какую-нибудь чахлую… Хоть зеленый горошек…
— Тебя не нравится мое царство. Но я? Я, разве я был тебе плохим мужем? Я сделал тебя царицей, я одел тебя в драгоценные наряды. Разве я не снимал их с тебя медленнее, чем идет здесь время? Не держи зла за слова, но кто твоя мама? По сути она простая крестьянка, сельская дурная баба. Сама тебя растила без отца и тебе желает быть разведенкой.
— Не смей так… Тебе ведь сверху говорили отпустить меня? От Зевса приходили? А тебе все равно. А тебе говорили!
— Если ты передашь ей, что тебе хорошо со мной, она угомонится. Там снова будет урожай, а нас оставят в покое.
— Ну хорошо, ты был хорошим мужем. — Персефона заговорила вдруг серьезно, и только некоторые гласные срывались истерическими нотками, показывающими, что она несет чепуху и не уговаривает, а обвиняет. — Если ты меня любишь, пойдем со мной. Брось это царство, кому оно надо, его даже отобрать у тебя никогда не пытались. Мама нашла бы, где нам жить, и без стакана амброзии мы не останемся.
Аид не ответил.
— А если на время? Тебе ведь тоже положен отпуск, ну, слушай, ну что здесь без тебя случится, тени — они и есть тени, они и не заметят, что тебя нет.
— Я никуда отсюда не уйду. — Ответил резко, голос металлом отразился под сводами. — Ты можешь идти. Ты свободна. Ты права — мне было указание сверху.
— Я уйду. — Она обернулась, рассматривая сквозь струящийся дым его темное лицо. Длинный горбатый нос. Резкие морщины. Густые, закинутые назад волосы цвета железа. Она словно ждала чего-то.
— Почему ты не идешь? — раздраженно спросил, но тут же другим голосом, мягко — насколько привыкший к мертвым мог мягко: — Подожди, иди сюда. Я должен дать тебе что-то, на память.
Персефона повернулась лицом к мужу, но не сделала ни шага, он сам подошел к ней. Смотрел — ей, как всегда, стало тоскливо и беспокойно от его взгляда, она хотела отвернуться, но он зажал ее голову в ладонях и прижался губами к губам. Что-то маленькое, гладкое, прохладное скользнуло с его языка на ее язык. Гранатовое зернышко. Зубы, сжавшиеся от внезапного напряжения, раздавили зернышко, и сладкий, терпковатый гранатовый сок брызнул в небо — так мало, чтобы хотелось еще, и язык шарил в поисках исчезающего вкуса. Она не могла захотеть оторваться от мужа, она старалась захотеть. И прижималась к жестким губам — еще, еще ближе (только не встречаться взглядом). Она трогала седые волоски на его груди, впивалась зубами в плечо, почти всерьез, почти стараясь прокусить плотную сухую кожу. И не заметила, как проглотила зернышко — он заметил. Он резко развернул ее, она вздохнула… она не знала его секрета, она не замечала, что он почти спокоен.
В погоне за утерянным вкусом, радуясь всякому его прикосновению как подаренной секунде жизни, она не понимала, что Аид делает с ней. Он вертел ее, как вертят игрушку-лабиринт, чтобы шарик попал в нужное место. И гранатовая косточка попала — в сердце. А потом он вбивал — чтобы косточка крепко засела в сердце, чтобы никакая солнечная кровь не могла ее вымыть. Он знал. Она не знала.
— Ты вернешься? — спросил снова, когда, одетая кое-как, сделала нерешительный шаг в сторону наземного мира. Вопрос словно придал ей решимости,
— Нет. Нет, Аид, я ухожу от тебя к маме, я никогда не вернусь. Мне здесь не место. Я не забуду, я никогда не смогу забыть, но я не вернусь.
— Ты вернешься, — бросил он, уже чем-то занятый.
Персефона пробиралась сквозь клубы безвкусного дыма. Тени бродили, видя ее, спотыкались, то ли падали, то ли расступались — без памяти, неотличимые друг от друга. Аид на троне таял за спиной, и другой, пустой трон рядом с ним, таял. Пустыми окнами пугали полуразрушенные дома. Пепелища, обгоревшие стволы. Дороги были завалены камнями, пеплом и мусором. Как и речушки с едким запахом, через которые приходилось перебираться вплавь. Только вода Леты была медово-чистой. Добралась до ворот. Большой пес не хотел отпускать ее, подпрыгивал, лизал лицо, заглядывал в глаза то одной парой глаз, то другой. Вилял хвостом, потом поджимал хвост. Скулил.
Деметра стояла у самых ворот. Высокая, красивая, а спина — неподвижно-прямая. Пшеничные косы уложены венцом вокруг головы. Взгляд — в одну точку, терпеливый и тревожный. Глубокие морщины у губ — раньше их не было. Горькая полоса между бровями.
— Мама! — воскликнула Персефона, — Мамулечка!
Та вздрогнула и кинулась к ней.
— Перси! Моя… моя хорошая девочка! Да… да ты вся мокрая! Ты что, вот это все вплавь? Скотина, он не мог тебя хотя бы до ворот подвезти? Хотя чего от него ожидать, эти сволочи…
Мама обнимала ее, не замечая, что собственное платье мокнет, и голос был такой, будто сейчас заплачет.
— Моя девочка, мое солнышко… Скотина. Такой же, как твой папаша, одна семейка. Но они меня не знают. Они думают, что они хозяева жизни, но я им устрою. Я им такую жизнь устрою! Моя доченька… Подожди. Я же все, все предчувствовала, вот, я и одежду взяла. Я же не могла не знать. Держи, переоденься. Давай я тебя прикрою, вот так, что ли.
Персефона начала переодеваться. Ее было неловко. Она торопилась. От этого выходило еще хуже — трусики липли к ногам, и сухая одежда оказывалась мокрой. Она убеждала себя, что проходящим мимо теням нет дела до ее наготы, у них свои проблемы, они только что умерли. Она не хотела признаваться себе, что стесняется матери — что это новое тело, с красными от поцелуев сосками, с плотно сжимающимися, все еще беспокойным межножьем, уже словно не то тело, что мать произвела из себя и видела тысячи раз.
Она должна была сказать что-то радостное, в тон маме, но слов не находилось. Росло внутри — молчаливое. Прорастало гранатовое зернышко. А мама говорила:
— Я и крем на всякий случай взяла для рук, тебе не надо? Наверняка обветрились там, внизу. Хочешь пить? Я перекусить взяла, нам ехать не близко. Ты согрелась?
Персефона начала возвращаться к жизни только в машине. Все было по-старому: мама за рулем, Персефона — на пассажирском сиденье, грызет овсяное печенье. Деметра, которой приходилось следить за дорогой, спрашивала, уже спокойнее:
— Ну как, как это вообще могло произойти? Я до сих пор не верю. Папаша твой, старый козел, подарил тебя, как вещь какую-то. Сколько я сама от него намучилась… но мы же Зевс, весь из себя верховный. Ты даже к сердцу не бери, что я его папашей твоим зову — какой он тебе отец… Ты моя дочка, только моя.
— Я не знаю, мам. Это было так неожиданно. Мы просто гуляли с девчонками, ну там цветы какие-то дергали, болтали. Я уже не помню… Какой-то цветок был необычный… А тут — он… Я так испугалась, он, знаешь, такой… своеобразная внешность. Я просто окаменела. Я стою — и он стоит. И смотрим. А у него такой взгляд… А тут он руку мне протянул… Сказал… Он меня и увез. И я только внизу уже поняла, где я и кто он.
— Обижал тебя? — В голосе затаенный ужас и мольба, и все дни, за которые земля высохла и растрескалась.
— Да нет, ты не думай. Нет. Он на самом деле был очень ласковым со мной. Много рассказывал. Он все время говорил, что он меня любит, и что он не такой, как те, наверху, что он любит одну меня и навсегда. Корону подарил.
— Корону! Кому они нужны, будто у меня нет…
— Ну, знаешь, у тебя все больше венки — а у него корона такая… с камнями.
Мать бросила на нее быстрый взгляд, сведя золотистые брови на переносице, и Персефона вжалась в сиденье. Она очень любила маму, они были такой тесной парой — мама и дочка. Но она боялась маминого гнева. Нет, супруг Аид не был так страшен в гневе, как мама Деметра.
— Но у тебя они легкие, венки, — сказала Персефо-на, — а у него — тяжелые. Давит. Потом голова вечером болит. Хотя там нет вечера. Ни дня, ни вечера, ничего — все только дым клубится серый да тени, везде тени — сами не помнят, кем они были, что делали. Ничего не помнят, мамочка, вот это мне в них не нравится. С ними даже поговорить из-за этого нельзя — они ничего не способны рассказать, а я бы хотела хоть знать, что в мире творится.
Деметра, держа руль левой, положила правую руку на плечо дочери.
— Ничего, моя Перси, ничего. Теперь ты со мной, теперь все будет у нас по-старому, как всегда, и ты забудешь, забудешь это происшествие… как страшный сон. Мы обе забудем этот кошмар.
Дальше ехали молча. Персефона смотрела вокруг. Целовала свежий воздух сквозь приспущенное окошко, ласкала глазами синь неба, ловила губами солнечные лучи.
Мама напомнила — зачем мама напомнила, теперь мысли и от солнца, и от ветра возвращались к тому дню.
…Собирала с другими цветы, а потом будто выключили свет, и выключили глупый треп подружек. Он смотрел на нее, она смотрела на него. Он протянул руку и спросил: «Будешь моей женой?» Она молчала. Она не заметила, как ее рука оказалась в его руке. Они ехали. Блестящая темная машина. Они ехали очень долго, и он смотрел вперед, он не смотрел на нее. Хотелось ли ей, чтобы он посмотрел на нее? Было ли ей страшно? Она не могла шевельнуться от страха. От страха ли? Эта странная неподвижность, как будто тело изнутри наполнилось чем-то новым, как будто оно только теперь стало телом, и эта дрожь, дрожь-ожидание: когда же он прикоснется, когда же он прикоснется. Но он смотрел вперед, а мимо проносилось мертвое пространство космоса. Пусть хотя бы посмотрит. Пусть делает что угодно, но пусть хотя бы посмотрит, эта дрожь без прикосновения несносна.
В том месте, где сумерками клубились тени живших когда-то, Аид дотронулся до нее. Он стоял за ее спиной, и он положил левую руку на ее предплечье, и больше не шевелился. Время исчезло. Кажется, они стояли так несколько часов, потом несколько лет, и еще несколько веков. Она видела его отражение в темной стеклянной стене перед собой — горбатый нос, глубокие борозды, страшные разметавшиеся волосы. Она любовалась. Глаза его были закрыты. Ей показалось, что из-под века скатывается слеза, но то были только тени бродящих вокруг теней. Эта вечность была такой хорошей, и такой невыносимой. Неподвижная ладонь Аида и дрожь внутри Персефоны. Невыносимое счастье, невыносимо так ждать — когда же он обнимет ее своей рукой, когда опрокинет на дымное ложе, и она, боясь произнести вслух слово, мысленно умоляла его, мысленно говорила ему, что больше не может ждать, что умрет, если сейчас же не… Он как будто услышал — и резко развернул ее к себе — глаза открыты. Его взгляд — смерть. Черные дыры в космосе. И теперь ей стало страшно. Словно жизнь кончилась (так и было). Дрожь, стремление — пропали. Он опрокинул ее, раздвинул ноги, ей стало больно, она закричала, не понимая смысл этих быстрых движений. Но когда все прошло и он гладил ее, и просил за что-то прощения, а она словно приросла к нему и не могла отделиться. Лазала как маленький зверь по его большому телу. Накручивала на пальцы волоски на его груди. Целовала коричневые, почти черные соски, плоский пуп, стирала кровь — он сделал ее женой. Иногда, словно случайно, кусала. Пробовала — когда ему будет больно. Кожа его была шершавой. Она сжимала зубы изо всех сил — но ему и это было лаской. Она — и потом — так и не научилась причинять ему боль.
Аид оправдывался. Это неправда, что его нельзя любить. Он не будет смотреть ей в глаза. Он лишь хотел, чтобы у него была жена, чтобы он мог сделать ее счастливой, любить и баловать, чтобы отдать ей все сокровища, собранные здесь, внизу. Персефона не слушала. Проводила ладонью по его огромным ногам, покрытым, как ракушечным узором, ровными седыми завитками, приятно щекочущими. Нажимала на выдающиеся колени. Царапала ногтем горбатые большие пальцы ног — он смеялся: «Не надо, что ты делаешь». Но она маленькая хозяйка — брак заключен, теперь это все принадлежит ей, и она может распоряжаться как захочет. С детским любопытством рассматривала, а потом ласкала то, что сделало ее женой и привязало навсегда. И снова поднималась в ней странная дрожь, веки опускались, она вытягивалась на нем, искала руками его рук, искала губы…
И он ее любил во второй раз — теперь она не смотрела в его глаза, теперь она поняла смысл его движений, и танцевала с ним, попадала в ритм. И задыхалась — так радостно разрешалась ее дрожь, так хорошо стремление становилось действием и окончательно разрешилось зелеными искрами под закрытыми веками. Она благодарила его, смеясь, с закрытыми глазами.
Но потом Персефона открыла глаза. Она смотрела в струение теней. Темные волны. Темные клубы. Сколько видит глаз. И ее трон — рядом с троном Аида…
…Земля за окошком была покрыта зеленоватым пухом — самой нежной, самой первой зеленью, и напряженные почки на ветвях были готовы распуститься, но еще закрыты.
— Мам, почему так голо?
— Потому что.
После паузы:
— Я им показала, на что способна. Пусть знают. Вскарабкались мужики на гору, и думают, что самые крутые. Они без меня — ничтожество. Пустое место. Нет меня — нет людей, и кому они нужны? Выдумки! Они без жертв не могут, у них же зависимость. А подумать об этом, когда дочку отдавал, у Зевса божественного ума не хватило.
Дочку! Да он хоть бы за все эти годы поинтересовался, как ты там. Хоть бы раз о дне рождения вспомнил. Но теперь все будет иначе. Мы будем вместе. Смотри — уже цветы раскрываются, всего за какой-то день. Клетки делятся неистово. Ядра едва поспевают. Скоро будут плоды — самые вкусные из тех, что когда-либо были. Такой весны никогда еще не было. Такого года, как этот, еще не было и не будет.
Дома Персефона удивилась тому, что все выглядело так же, как до ее ухода. Даже забытая маечка так и валяется на стуле, как кинула ее, когда уходила гулять.
— Я ничего не трогала, — пояснила Деметра, поправляя косу. — Только пыль сметала. Я очень ждала тебя.
— Спасибо, мама, — сказала Персефона и снова прижалась к ней. Втянула ноздрями запах сухих колосьев и ее благодатной кожи. Потом, не отходя от мамы, повернулась.
— Как светло. Я раньше не замечала, как хорош этот свет. Он льется и под деревья, и через ткани, он изменяется, но остается таким же легким, таким… радостным.
— Можешь принять душ, я пока приготовлю нам ужин.
Персефона боялась наступления вечера, она не желала прощаться со светом и неуверенно просила солнце — тоже все-таки какие-то родственные связи — остаться на ночь, но Гелиос отвечал устало: «У меня и так сверхурочных больше тридцати часов».
Однако закат был таким теплоцветным, так переливались в нем краски, что Персефона не жалела о дне. А когда пришла ночь и цвета растворились в синем, оказалось, что насыщенная ночная тьма с перекличкой насекомых и шорохом трав не имеет ничего общего с сумерками подземного царства. Мать Деметра заснула (она всегда забавно сопела во сне, почти похрапывала), а Персефона все любовалась тьмой.
На следующий день они завтракали вдвоем, мать и дочь, как всегда, как годы до происшествия. Мелкими глотками Персефона пила горячий ячменный отвар. Мама, намазывая мед на лепешку, говорила:
— Ты знаешь, когда все это закрутилось с твоим отцом, я была далеко не в восторге. Нет, он, конечно, ничего, по другим причинам. Но когда поняла, что у меня будешь ты… Я была так счастлива. Я с самого начала знала, что на этот раз будет маленькая девочка. Она будет расти, я буду учить ее сеять и жать, и кормить в земле семена, и поддерживать пробивающиеся ростки. И мы всегда будем вдвоем, две богини. Когда ты была в моем лоне, знаешь, я все время разговаривала с тобой…
— Если бы он посватался как следует… — неожиданно для себя сказала Персефона. А то как-то вышло… не по-божески…
— Именно, что по-божески, — усмехнулась с сарказмом Деметра. — Но не бойся, моя девочка, я ведь не собиралась тебя запирать здесь, это я образно выразилась, что мы всегда будем вместе. Я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя была семья, много детей… Как у всех. Не думай, что я хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Ты знаешь… будь ты хоть сто раз богиня, когда ты мать-одиночка, на тебя косо смотрят. Можно сколько угодно повторять: уж я-то свою семью обеспечить могу, получше некоторых с яйцами. Уж у меня-то никогда не будет пустых закромов. Но они жалеют, за спиной перешептываются. Дураки. У тебя все будет не так, как у меня, ты еще будешь счастлива! Понимаешь, просто Аид не тот бог, за которого я бы тебя выдала. Такое только твоему двинутому папаше, кобелю-перестарку, могло прийти в голову. Он же старик по сравнению с тобой — этот Аид. Тебе бы кого помоложе, из твоего поколения, чтобы вам хоть поговорить о чем было. Хотя бы мальчик этот, с крылышками на кроссовках… Как его? Вот это тебе была бы пара. Он шалопай, конечно, но, я думаю, далеко пойдет… Как он тебе?
Персефона вздрогнула, потому что она не слушала слов матери, она вспоминала последний поцелуй Аида. От поцелуя веяло смертью, но он был таким легким. Аид почти не прикасался к ее губам, почти просто был рядом. Она слышала его дыхание. Он провел указательным пальцем по ее лбу. Она ответила матери: «Хорошо», зная, что этот ответ подходит ко многим вопросам.
— Но такого мужа, конечно, сложно будет удержать на месте, — продолжала Деметра. — Он то тут, то там. И ни в коем случае не рассчитывай на то, что тебе удастся его изменить, доченька, мужчину невозможно изменить, к нему можно только приспособиться и научить его приспосабливаться к тебе. Поэтому я в свое время решила не выходить замуж. Зачем мне под кого-то подстраиваться?.. Почему ты ничего не ешь? Тебе не нравятся лепешки? Хочешь сыра? Тебе надо поправиться, смотри, на кого ты похожа стала, совсем исхудала там, внизу. Я тоже хочу поправиться, теперь не до диет. — Деметра виновато засмеялась: — Я потеряла пятнадцать килограммов за это время.
Весна быстро обратилась теплым щедрым летом, наполненным птичьими голосами. Этим летом мать, как и обещала, старалась проводить с Персефоной много времени. Они вместе гуляли по полям и лугам. Деметра работала, Персефона помогала ей как могла. Ходили в горы, и Деметра многое рассказывала дочери — то, чем раньше не делилась, считая ее маленькой. У Персефоны уже был однажды муж (твой первый муж, говорила об Аиде Деметра, будто намечался второй), она уже не была маленькой дочуркой, а значит, можно было с ней говорить о многом.
Деметра рассказывала, как тяжело жили с Зевсом и как была счастлива, когда этот брак распался. Дурочка Гера взяла его себе — можно только посмеяться над ее бедными трепыханиями: он гуляет — она бесится, а все почему? А потому что у женщины должно быть свое содержание в жизни, свое дело. Вот она, Деметра, целый день в работе, она принимает на себя ответственность, а Гера кто? Покровительница брака. Курам на смех: мужика в доме удержать не может, а покровительница брака… Это только таким бракам покровительствовать, как первый твой брак, Перси. Но у Деметры с Зевсом все было наоборот, он жутко комплексовал и ревновал к ее могуществу. И сколько ему ни повторяла: «Да ты, ты верховный бог, ну чего тебе еще надо?» — он каждую жертву подсчитывал: сколько ей принесли, сколько ему. Да, в постели им было хорошо, но это же еще не все, «поверь, дорогая девочка, жизнь долгая…». У богов жизнь практически вечная, а вечность на ложе не проведешь.
Персефона отводила глаза и смотрела на дальние горы, на легкие клочья облаков.
Теперь она узнала, что у нее, оказывается, есть старший брат, Плутос, но о нем мать говорила равнодушно, словно и не ее ребенок. Она желала себе только девочку, вторую богиню — вровень себе, любимицу, спутницу. Толстый мальчик, думающий только о деньгах, был ей неинтересен.
«А иногда, когда ты маленькая была и я тебя из школы забирала… Знаешь, иногда я задерживалась — ненадолго совсем. На пару минут, ну ты же знаешь, сколько у меня всегда работы. Иду и выглядываю тебя — а детей много, такой муравейник пестрый. И я тебя не вижу. И вдруг кажется, что я опоздала — и все, тебя нет, и не будет, ищи — не ищи. Становилось холодно. Я вся коченела. А потом вдруг смотрю: вот ты, стоишь, чего же я тебя не видела, тут и ты меня замечаешь, машешь просто и не знаешь, как я счастлива тебя видеть. И я плакала и старалась, чтобы ты не видела, как я плачу…»
Иногда мать вдруг останавливалась посреди трудов, подходила к ней, обнимала и прятала мокрое лицо в ее волосах. Колосья щекотали Персефоне ноздри, и она была счастлива.
Но Персефона все чаще ловила себя на том, что ей больше нравится лениться, а не помогать. Стоять и смотреть, как мать что-то там пропалывает, окучивает, подвязывает, на быстрые и ладные движения Деметры. Так было всегда: мать, всегда занятая, до происшествия редко находила время на долгие задушевные разговоры и объятия и редко допускала Персефону к своим трудам.
А со временем Персефоне все больше нравилось быть одной. Ложиться среди высоких колосьев, так, чтобы было светло и тепло, но солнце с неба не видело, и лежать. Чувствовать спиной покалывающие стебли, распаренную землю и думать, что там, внизу, под метрами этой живой, щекочущейся букашками земли, клубятся вечные сумерки, и блуждают беспамятные тени, и смотрит на них с трона Аид, ее муж — темным взглядом, как черным лучом. Представляла себе его странное лицо. Костистые кисти рук. Выпуклые позвонки на согнутой шее. Комкала в руках землю. Растирала комки земли по бедрам — снаружи внутрь. Клала землю в рот, размазывала по губам. Здесь, наверху, у земли был сладковатый привкус, а там, в подземном царстве, — соленый и холодный. Она вжималась в землю сильнее, но не достигала рук мужа. Она знала, что ему плохо. Что он сам будто смотрит в свои глаза и сидит неподвижно, и не поднимает взгляд наверх, туда, где она. А ей хотелось, чтобы Аид снизу, из-под земли провел пальцами по ее позвоночнику, от шеи спускаясь ниже, и чтобы потом рука его скользнула между ног ее. Она стонала, укутываясь в колосья, и плакала, потому что знала, что внизу, в сумерках, никогда не будет желать его так сильно, как здесь.
Персефона ждала сбора урожая. Когда поспели плоды граната, зернышки которых были похожи на чудесные драгоценные камни, сказала Деметре:
— Я больше не могу быть у тебя. Я должна вернуться к мужу.
Персефона ждала запретов и увещеваний. Она ждала страшного гнева своей матери — более страшного, чем гнев Зевса. Но Деметра ответила тихо:
— Я понимаю. Я давно ждала, что ты мне это скажешь. Эти плоды граната… — И, помолчав, прибавила: — Я хотела для тебя другой судьбы.
Мать довезла ее до самых ворот. Персефона не оборачивалась, чтобы не видеть провожающий взгляд Деметры, это муж учил ее не оглядываться. Шел мелкий дождь. Тени, еще не потерявшие человеческий облик, хватали ее за одежду, о чем-то умоляли, кричали, доказывали, но разбежались, когда ликующе повизгивающий пес выскочил встречать вернувшуюся хозяйку. Он ловил счастливо мечущийся хвост то одной, то другой головой, тыкался носом ей в ноги, вылизывал щеки. «Ну хватит, хватит». — Она утиралась одной рукой, а другую запускала в черную шерсть, чесала загривок и гладила. Пес был единственным, кто мог радоваться здесь.
Персефона не сопротивлялась дымному ужасу, давала стонам наполнить себя, и не пыталась внушить себе, что теперь царство Аида ей ближе или приятнее. Ей было плохо — но это было не страшно. Путь лежал мимо развалин и пожарищ. Ее перевозили на ладьях через черные вязкие реки — одну, другую, третью… И только воды Леты искушали глотнуть — и не достаться ни мужу, ни матери. Увидела Аида. Как медуз, расталкивая тени руками побежала к нему, целовала его седые виски. Он отстранился.
— Не забывай, кто мы, мы — царь и царица.
И Персефона заняла свое место на пустом троне.
Сумеречные волны носили пустые души. Ветер кружил их и свивал в косы, сталкивал и разводил. Вечные сумерки, не похожие ни на сладкий свет дня, ни на густую тьму ночи. Вечные души, не помнящие, кем они были и чего хотели от жизни. Персефона смотрела на них, потерявших все, и время тянулось медленно и безнадежно.
Только позже Аид повернулся к ней.
Сколько часов или дней прошло с ее возвращения?
— Любимая моя, жена моя, — говорил Аид, — без тебя все было мукой.
— Я не смогу прожить в твоем царстве и месяца, — ответила она удивленно.
Он отводил одежду с ее груди, но как будто не решался дотрагиваться. Случайно он посмотрел так, что встретились их взгляды, но она увидела в его глазах не очень страшную смерть, прикрытую обидой, такой наивной обидой, словно Аид был маленьким мальчиком, а не повелителем мертвых, а еще увидела такой же наивный вопрос: «Можно, ну пожалуйста, можно?»
— Ведь в первый раз ты была гораздо дольше месяца здесь, — сказал он печально, опуская руки.
— Я и не выдерживала. Я умирала каждые полчаса, но это возвращало меня к тебе, а ты и не замечал. Все мертвые приходят к тебе.
— Вот видишь, ты не уйдешь от меня. Я так рад.
И словно она ответила «можно» — холодные ладони ложились ей на грудь, а слюна превращалась во рту в гранатовый сок, и они кусали губы друг друга под непонимающими взглядами теней, оставив троны, найдя себе в первом попавшемся углу ложе. Он раскрывал ее осторожно, как цветок, снизу вверх, стопы, лодыжки — только поцелуями, и, видя всех, кто умер до сих пор, равнодушно бродящих вокруг, Персефона открывалась Аиду, открывалась смерти и любила за всех, кто больше любить не может, плача от жалости к ним.
Она не раскаивалась, что вернулась. Знала, что прошел уже месяц, она не уходила.
— Правда, из меня получается хорошая царица подземного царства? — спрашивала она мужа. — Я справедливая. Я ответственная.
— Ты прекрасная.
— Аид, послушай. Я вот все думаю — скучно у нас как-то. Тени просто неорганизованно бродят. Может, нам устроить им какие-нибудь состязания? Спортивные? Театральные? Я уверена, что у нас тут и олимпийских чемпионов, и поэтов пруд пруди. И музыкантов.
— Тебе все еще скучно у меня, маленькая моя Персе-фона.
— При чем здесь это! Я просто хочу быть хорошей царицей. Не просто же в короне сидеть. Надо что-то делать. У женщины должно быть дело.
— Ты помогаешь судьям. Ты хранишь мудрость. Ты любишь меня.
— Это не то!
— Значит, тебе все-таки скучно. Сплавай на острова блаженных, развейся. Там тебе, по крайней мере, будет с кем поговорить, если я скучен тебе.
— Милый, милый, ты не скучен мне. Поцелуй меня!
Она плыла на ладье по подземным озерам. Правила
сама. Вдали от теней воздух чище, дышать легче. И вот уже Персефона стала замечать, что подземное царство вовсе не уродливо — в бледном свете, испускаемом большими озерными рыбами, снующими под кормой, цветами распускались сталактиты, музыкой падали с них капли, а стены пещер поблескивали алмазами, изумрудами, сапфирами. «Это все — мой муж!» — думала она влюбленно.
На островах блаженных, как обычно, было радостно. Размещенные здесь герои встретили ее возгласами:
— О, Персефона нас навестить пришла! Давай к нам! Идем к костру!
Помогали ей сойти на берег, слишком уж заботливо обнимая за плечи, и теребили волосы. Ей не нравились эти жесты.
Персефона сидела с ними у костра, слушала их песни, смеялась их грубым шуткам. Они угощали ее шашлыком и говорили не как с царицей, а как со своей, с подружкой. Да и какая она им царица — острова блаженных только формально принадлежат ее мужу. Об Аиде герои говорили с ухмылочками, пренебрежительно. Один упомянул, что силы в Аиде никакой, Геракл его как-то на поединок вызвал. И что? А то — раз-два, и готово, хорошо хоть доктор Аиду нашелся, а то остались бы мы без загробного мира. Заметьте, когда Геракл еще смертным был. «Да, Геракл…» — мечтательно повторил кто-то. Им, конечно, повезло по сравнению с остальными, но острова блаженных — все же загробный мир, а Гераклу посчастливилось попасть на Олимп…
Персефона закусила подрагивающие губы. Ничтожные, смертные, такие же тени, как и все.
Она поднялась и ушла, не прощаясь. Плыла туда, где клубились несчастные тени, к своему несчастному мужу, которого одолел смертный. Одолел, ранил. Убил бы — если бы можно было убить смерть. Она нашла шрам от раны, целовала. Аид стонал. Тени пугались. Она любила его уязвимым. Ему ничего не сказала, ему было бы неприятно слышать. Кто он, если вдуматься? Какой царь? Ему не приносят жертвы, не молятся. Что его царство? Повелевать теми, кто уже умер, невозможно — они не боятся ни смерти, ни наказания, да и не нужно — они ни на что не способны. Он приставлен здесь к ним, как ничтожный пастух, глядящий за овцами — чтобы не разбежались. У Аида нет ничего — но есть Персефона. Его огромное тело, усеянное ранами, было залечено ее прикосновениями.
Со временем Персефона привыкла держать веки полуопущенными, внешне это добавляло ей царственности, но внутренне — это было ее приспособление к сумраку.
Однажды, оборвав поцелуи, Персефона спросила:
— Аид, у тебя не может быть детей?
— Как же нет? У нас есть тени, столько теней. Куда же больше.
— Я просто в себе уверена. Я не проверялась, но, учитывая, кто мои родители… Понимаешь, не может быть, чтобы во мне проблема была. Только без обид, да?
— Я не понимаю. Тебе чего-то не хватает? Они, они все — твои дети. Посмотри, какие они беспомощные без памяти. Им нужна твоя забота. Им нужна любовь.
— Конечно, в переносном смысле, да, они как дети. Это не имеет значения. Мама просто говорила, что мечтает, чтобы у меня было все как у людей… как у богов — семья, муж, детей много. А у нас с тобой не получается почему-то.
— Опять она! — гулко разнеслось в сером тумане. — Мама, мама, мама! Послушай, Персефона, мы можем хоть когда-нибудь остаться вдвоем, без твоей мамы? У меня такое ощущение, что и в постели она с нами рядом, дает тебе указания, как лечь да как повернуться.
— Ну тогда ты спишь с обеими богинями, должен быть рад. Ты же всегда и во всем завидовал отцу. Всегда считал, что отец себе получше кусок урвал. А что, не так?
Аид молчал. Смотрел на свое царство, а Персефоны словно не было здесь. Еще глубже морщины на лице — как порезы, еще седее волосы. Чужой. И тяжесть легла на Персефону. Ад, который муж придерживал над ней, теперь навалился весь. Но она понимала его. Она не сердилась.
Рано или поздно должен был прийти час, когда она скажет это.
— Я ухожу, Аид. Я ухожу к маме. Я вернусь. Я по-прежнему тебя люблю, я просто не могу здесь долго находиться. Проблема не в тебе. И не в том, что у тебя не может быть детей, это тут тоже ни при чем. Я просто больше не могу. Не выдерживаю.
— Но если ты умрешь, ты снова вернешься ко мне.
— Рано или поздно я стану такой, как они. Смотри, как вылупились! И слушают. Они слушают нас и ничего не понимают. Слова понимают, а почему мы друг на друга кричим и почему целуемся — не понимают. Когда я стану такой, ты сможешь меня любить?
— Да.
— Нет. Я тебя даже не вспомню.
— Я не дам тебе…
— Когда-нибудь я глотну из Леты, и этим все кончится. Поэтому я лучше уйду сейчас. А ты дождешься меня. Спасибо, что ты увез меня тогда…
Ее голос доносился уже издалека, по серым дымным клубам. Она убегала, уплывала, уезжала.
Мать ждала у ворот.
* * *
— Ты можешь что-то другое надеть? — спросила у дочери Деметра. — Не забывай, что мы — богини, люди хотят на нас смотреть и видеть воплощение своих надежд, благополучия, счастья, самой жизни, наконец, а ты из джинсов не вылазишь.
— Да, мама.
— И не смотри так, смотри прямо. Почему ты так странно смотришь?
Полуприкрытые веки. Но не потому, что свет режет глаза. Она просто привыкла у себя дома. Сколько лет прошло. А мать не хочет признавать, что у нее есть свой дом, свое царство. Свой муж. Мать по-прежнему присматривает ей хорошеньких юношей, хотя сама Персефона уже не юна — она вечна, бессмертна, и веки ее тяжелы — она никогда не закрывает глаза, но и не открывает широко в своем царстве. Так же как и супруг. Они смотрят из-под полуопущенных век, и полупрозрачные тени танцуют им полутанцы. Иногда одна или другая тень испускает вдруг долгий протяжный стон, от которого все царство вздрагивает. Персефона теперь уже не боится, она знает. Это память. Благотворное действие лекарства оборвалось — и она, заботливая царица, мать своих подданных, обнимает тень, все более напоминающую человека, за проницаемые плечи и ведет к Лете. Тень скулит и стонет по дороге, а она шепчет: «Ничего, ничего, чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Сейчас выпьешь, сейчас полегчает». Возвращаются от Леты тени сами, летят, не отягощенные грехами и страданиями земли. Только одна тень, совсем ребенок с большой раной на животе, спросила ее: «А ты… Ты разве не будешь пить?» И она прижимает ускользающую тень к себе, пачкаясь кровью, но после одного глотка тень взвивается клочком дыма и улетает от нее.
— Я стараюсь, мама.
У света странный, горячий и неприятный запах. Все хорошо переносят этот запах, а Персефоне скучно от него. Но ей иногда забавно бывать в гостях у матери, наблюдать верхушки растений — листья, цветы, стволы и кроны деревьев. У себя дома она видит только корни. Ей кажется, что в корнях больше правды, но она не говорит этого Деметре.
Однажды к Персефоне и ее мужу пришел в гости живой молодой человек — талантливый молодой человек, маме бы понравился. Орфей. Но он был уже занят — именно поэтому и пришел, как выяснилось после импровизированного концерта. А играл он лучше, чем кто-либо когда-либо на земле или под землей. Особая там, внизу, акустика. Много воды да еще души, проводящие звук. Тени вздрагивали в музыке, сами становились звуком, и многих, многих нужно было потом отпаивать водами Леты. Орфей играл так хорошо, что Персефона широко открыла глаза. Музыка воскресила в ней первую зиму, проведенную в царстве Аида, когда тени разлетались в ужасе от их непрерывных ласк. Первую встречу, первую ее дрожь, жажду прикосновений. Она согласилась исполнить любую просьбу музыканта. Тот попросил вернуть ему умершую жену.
Аид откашлялся, рот его стал еще брезгливее, чем обычно. Бледный Орфей прятал лицо, дышал тяжело, но Персефона знала, что опущенные уголки жестких губ скрывают не гнев и не отвращение, а растерянность. Ведь слово царицы не может быть нарушено. Наконец Аид прошептал ей в ухо:
— Дай ему первую попавшуюся. Просто любую тень, он не разберется все равно. И кто сказал, что люди от смерти не меняются.
Для Аида это проблема. Какая такая Эвридика, у теней нет имен. У теней нет имен, внешности, прошлого, будущего, отличий, у них даже границ нет — как найти в этом аморфном дыму вполне определенную Эвридику? Не отпаивать же кровью всех — миллионы, сотни миллионов? Но он одного не понимал, ее муж, которому вечно лень всерьез заняться своим собственным делом. Он не понимал, что у женщины должно быть свое содержание в жизни — она давно нашла это содержание для себя, она давно навела порядок в этом его бардаке, который он гордо называл «царством мертвых».
— У меня все записано. Кто когда поступил, в каком состоянии и по какой причине, сколько воды из Леты употребил и куда направлен. Так когда с ней это произошло, говорите?
Подняла списки. Нашла. Отпустила.
— Только не оглядывайся, — сказала Орфею, — Она сейчас не такая, какой ты бы хотел ее видеть, Потом, наверху разберетесь,
Персефона смотрела на удаляющиеся силуэты и знала, что ничего из этой затеи не выйдет, Орфей обернется, никуда он не денется, Обернется и увидит дым, И закричит, Эвридика испугается и вернется назад,
Сглотнув, Персефона протянула руку к руке мужа, Чтобы он не стал дымом, Чтобы он был вечно, как должно быть у богов, Его пальцы, Она знала его — со всеми его комплексами бога, которому не положено жертвоприношений, со всеми его мелкими болячками и смешной обидчивостью, замаскированной под величие, Она знала его лодыжки, его шрамы, его плечи, которые становились ей домом, Она не боялась смотреть ему в глаза — ну что особенного в смерти и небытии, с нами такого не будет, ведь мы боги, Но только бы он был, Только бы они не были разлучены, как Орфей и его жена,
Аид посмотрел на жену удивленно — чужая любовь и чужой эрос его не трогали, Он считал смертных зародышами теней,
Персефона знала, что для Деметры четыре месяца, которые дочь проводит в подземном царстве с мужем, — недоразумение, короткая отсрочка, во время которой богиня плодородия страдает и бездельничает, и ждет возвращения дочери, Деметра думает, что и Персефона проживает свое настоящее время с ней, но она ошибается, Две трети года, которые Персефона должна проводить с матерью, для нее самой — отсрочка, недоразумение, Настоящая жизнь ее там, внизу, с супругом,
Деметра одинока, У нее украли дочь, Персефоне жалко мать с ее колосками и зернышками — давно ненужными людям, которые и так все держат под контролем или думают, что держат, Разве что кроме смерти, Деметра еще менее могущественна, чем Аид, Но Персефоне нужно возвращаться домой, она не может остаться с матерью.
Зернышко граната в сердце — оно останется там навсегда, и Персефона всегда будет возвращаться к Аиду, и первые минуты после ее возвращения им снова захочется стоять рядом — прижавшись друг к другу, не шевелясь, как в первый раз — первые вечности после возвращения, с терпким и сладким вкусом граната во рту.
Гранатовое зернышко прорастает сквозь землю, к поверхности, и вырастают деревья, и покрываются цветами, но опадают лепестки, и набухают на месте цветов — плоды, такие плотные что шершавая кожица еле сдерживает сок, такие темные, что смертные не могут отвести взгляд и обречены пробовать, даже зная, что корни дерева — в царстве мертвых.
Назад: Repin
Дальше: Каринэ Арутюнова Я в Лиссабоне. Не одна

