Король романа
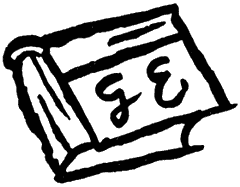
1. Почему я люблю Чарльза Диккенса, и почему его любят далеко не все
«Большие надежды» — первый роман, прочитав который я пожалел, что не сам его написал. Да, после этого романа мне вдруг сильно захотелось стать писателем и волновать умы и сердца читателей так, как волновался я, читая его. Уверен: из всех романов, написанных на английском языке, «Большие надежды» обладают самым удивительным, самым совершенным, тщательно проработанным сюжетом. Однако сюжет — не самоцель; он служит намерению автора заставить вас смеяться и плакать. И в то же время роман имеет ряд особенностей, отталкивающих людей от его прочтения. Одна из них связана с неприятием творчества Диккенса в целом. И прежде всего, многим не нравится, что каждый роман Чарльз Диккенс писал с намерением взволновать читателей на эмоциональном, а не интеллектуальном уровне. Воздействие на социальное сознание у него всегда достигается через эмоциональное сопереживание. Он — не аналитик; его творчество не является аналитическим, хотя и имеет черты назидательности. Гений Диккенса — в мастерстве описания; он умеет описывать с такой живостью и убедительностью, что ваше отношение к этому событию, явлению, чертам характера или чему-то еще уже никогда не будет прежним.
Например, прочитав в диккенсовских романах описание тюрем, вы уже не решитесь с прежней самоуверенностью утверждать, что заключенные находятся там, где и должны находиться. Узнав о двойственности и чудовищной изворотливости адвоката Джеггерса, вы начнете настороженно относиться к его современным коллегам. Хотя Джеггерс в «Больших надеждах» — персонаж второстепенный, он олицетворяет упрек, бросаемый нашей литературой жизни по абстрактным правилам. У Диккенса я нашел великолепный образ критика, не потускневший для меня до сих пор. Это Бентли Драмл, рассчитывающий «получить титул баронета, который должен перейти к нему в случае смерти ближайшего наследника» и отличающийся настолько угрюмым характером, что «про любую книгу он говорил так, словно ее автор нанес ему оскорбление».
Личные столкновения Диккенса с социальным злом были краткими и затронули лишь детство, и все же память о них преследовала его беспрестанно. Он помнил об унижениях, перенесенных отцом в долговой тюрьме Маршалси, помнил три месяца своего каторжного труда на фабрике в Хангерфорд-Стерз, где он наклеивал этикетки на коробочки с ваксой (ему тогда было одиннадцать лет). Чарльзу было девять, когда из-за денежных затруднений отца им пришлось переехать в Чатем, распростившись с прежней комфортной жизнью. Но вскоре семья была вынуждена уехать и оттуда. «Оказалось, жизнь куда печальнее, чем я думал», — писал Диккенс впоследствии. Только воображение юного Чарльза неизменно оставалось богатым и ярким. В «Дэвиде Копперфилде» он писал (вспоминая чатемскую жизнь и то, как он читал книжки в своей мансардной комнатке в Сент-Мэрис-Плейс): «Я был Томом Джонсом (маленьким Томом Джонсом, вполне безобидным созданием)». А еще он воображал себя Дон Кихотом и, что уже менее вероятно, героем сказок современной ему Викторианской эпохи. Как писал Гарри Стоун: «Трудно сказать, что появилось раньше: интерес Диккенса к сказкам или направленность его творчества, сравнимая со сказкой». Эдгар Джонсон замечательный биограф Диккенса, схожим образом описывает источники писательского воображения и далее утверждает, что Диккенс «создал новую литературную форму — нечто вроде сказки, в которой юмор тесно переплетается с героизмом и реализмом».
В «Больших надеждах» ярко и красочно описан Чатем времен детства Диккенса: это и могилы церковного кладбища, которые он видел из окна мансарды, и черный остов плавучей тюрьмы, похожей на «проклятый Богом Ноев ковчег». Эту тюрьму он увидел во время плавания из Медэуя к Темзе (там же он впервые увидел и арестантов). Пейзажи в «Больших надеждах» весьма напоминают чатемские: туманные болота, речная дымка. Трактир «Синий кабан» списан с рочестерского трактира, равно как свои прототипы имели дом дяди Памблчука и Сатис-Хаус — обиталище мисс Хэвишем. Во время пеших прогулок из Грейвсенда в Рочестер юный Чарльз с отцом часто останавливались в Кенте и разглядывали особняк, что стоял на вершине холма Гэдсхилл (склон холма тянулся на целых две мили). Отец говорил сыну, что если тот будет очень усердно трудиться, то когда-нибудь и он поселится в таком же особняке. Учитывая обстоятельства жизни семьи Диккенса в чатемский период, думаю, юному Чарльзу верилось в это с большим трудом. Тем не менее отцовские слова подтвердились, и он действительно поселился в этом особняке, в котором прожил последние двенадцать лет и в котором умер. Там же он написал «Большие надежды». Читателям, считающим творческое воображение Диккенса оторванным от жизни, стоит внимательно прочесть его биографию.
Воображение Диккенса питали несчастливая личная жизнь и страстная тяга к социальным реформам. Как и многие успешные люди, он хорошо умел использовать неудачи. Вместо того чтобы оправляться от очередного удара судьбы, Диккенс отвечал на него всплеском энергии и развивал бурную, почти лихорадочную деятельность. В пятнадцатилетнем возрасте он покинул школу; в семнадцать лет он — судебный репортер, а в девятнадцать — парламентский репортер. Зимою тысяча восемьсот тридцать первого — тридцать второго года двадцатилетний Диккенс собственными глазами увидел жертв безработицы, голода и холеры. Первый литературный успех, пришедший к нему в двадцать один год, был омрачен крушением его первой любви. Девушка, которую Диккенс полюбил, была дочерью банкира; ее родители сочли такой брак невыгодной партией и отказали молодому писателю. Через несколько лет она, неожиданно располневшая и скучающая, сама будет искать встречи с Диккенсом, но теперь уже он ее отвергнет. А тогда ее отказ заставил его работать еще усерднее. Диккенс никогда не погружался в хандру.
Он обладал тем, что Эдгар Джонсон называет «безграничной верой в силу воли». Одну из самых ранних рецензий на творчество Диккенса написал будущий тесть писателя (вы только представьте себе это!), где с абсолютной точностью охарактеризовал талант молодого автора. Джордж Хогарт так писал о двадцатичетырехлетнем Диккенсе: «Тонкий наблюдатель характеров и манер, наделенный завидным умением подмечать смешные стороны и красочной способностью выставлять в самом прихотливом и удивительном свете всю глупость и весь абсурд человеческой природы. Но помимо смеха он умеет вызывать и слезы. Его описания пороков и бедствий, столь изобильных в этом городе, способны всколыхнуть сердце самого равнодушного и бесчувственного читателя».
И в самом деле, восходящая звезда молодого Диккенса настолько затмила собой славу Роберта Сеймора — первого иллюстратора «Записок Пиквикского клуба», что художник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из ружья. К тысяча восемьсот тридцать седьмому году Диккенс уже прославился своим мистером Пиквиком. Ему самому было всего двадцать пять лет. Он взял на себя дальнейшее управление жизнью своих несчастных родителей. Так, он дважды выкупал отца из долговой тюрьмы. Диккенс настоял на переезде родителей из Лондона в Эксетер, пытаясь помешать своему непрактичному, бесхарактерному отцу и дальше делать долги, уверяя кредиторов, что его знаменитый сын все оплатит.
Диккенс зорко, словно сторожевой пес, следил за социальными проблемами своего времени. С политической точки зрения его взгляды и убеждения можно назвать либерализмом реформаторского толка, однако его мотивы были иными, нежели у политиков. Например, выступления Диккенса за отмену смертной казни строились на убеждении, что смертной казнью преступность не искоренить; они вовсе не были вызваны жалостью к тому или иному преступнику. По словам Джонсона, для Диккенса «главным злом был психологический эффект ужасной драмы, когда преступника вешают на глазах озверевшей, улюлюкающей толпы». Он неустанно поддерживал создание работных домов для женщин, участвовал в бесчисленных общественных и благотворительных делах. К моменту написания романа «Домби и сын» (1846–1848) Диккенс уже обладал твердой системой этических взглядов на человеческую алчность, проявляющуюся в мире соперничающего бизнеса. Он во весь голос выражал моральное негодование по поводу равнодушия к судьбе угнетаемых и притесняемых людей. После выхода в свет «Оливера Твиста» (1837–1839) писатель убедился: порок и жестокость — вовсе не врожденные качества отдельных людей, а порождение общества. Задолго до написания романа «Холодный дом» (1852–1853) Диккенс крепко утвердился во мнении, что «лучше вынести груз свалившихся несчастий, чем обречь себя на еще большие несчастья, пытаясь найти прибежище у закона».
Ему было тридцать, когда он впервые взялся издавать «большую либеральную газету», посвященную «принципам прогресса, усовершенствования, просвещения, гражданской и религиозной свободы, а также равноправному законодательству». В роли издателя Диккенс продержался всего семнадцать дней. С журналом «Домашнее чтение» ему повезло больше; журнал, как и его романы, пользовался успехом и рассказывал об «удивительных примерах добра и зла в обществе». Диккенс первым оценил талант романов Джордж Элиот и первым догадался, что под этим псевдонимом скрывается женщина. «Я почувствовал настолько женский взгляд, что имя на титульном листе меня по-прежнему ни в чем не убеждает, — писал ей Диккенс. — Если же написанное все-таки принадлежит перу мужчины, то я уверен: с самого сотворения мира еще ни один мужчина не обладал искусством столь глубокого проникновения в разум женщины». Естественно, писательница была очарована этими словами и подтвердила догадку Диккенса.
Он был настолько трудолюбив, что чужая работа казалась ему недостаточной, в том числе и работа друзей, к которым он относился с большим великодушием. «Даже у самых лучших из них наблюдается ужасающее чванство, — писал Диккенс. — Они поглощены мелочной, ограниченной, рутинной деятельностью, и это напоминает мне состояние самой Англии». И вместе с тем он остается защитником слабых. В романе «Тяжелые времена» Диккенс устами шепелявого мистера Слири просит за артистов цирка: «Не презирайте нах, бедных бродяг. Людям нужны развлечения. Не могут они наукам учиться без передышки, и не могут они вечно работать без отдыха; уж такие они от рождения. Мы вам нужны, хударь. И вы тоже покажите хебя добрым и хправедливым, — ищите в нах доброе, не ищите худого!» Эту особенность Диккенса по достоинству оценил Ирвинг Хоу, написавший: «В [его] наиболее значимых романах увеселитель и моралист являются тенями друг друга и в конечном итоге — двумя голосами, исходящими из одного рта».
Дар Диккенса проявляется в том, с какой легкостью он может подать ситуацию, вызвав у нас и смех, и сочувствие; но любое «неприкрытое и беззастенчивое проявление социального зла» (слова Джонсона) вызывает у него бурное негодование. Тем не менее главный писательский риск Диккенса мало связан с его общественной нравственностью. Менее всего он боится упреков в сентиментальности. Он свободно выражает гнев и страсть, эмоционально и психологически раскрывается перед читателями. Диккенс беспечен и не думает о самозащите. В современном, постмодернистском взгляде на писательское ремесло упор делается на подтексты и изыски. Мы научились «улучшать» и «совершенствовать» роман до тех пор, пока он не лишится сердцевины. Думаю, современные литературные минималисты и те, кто причисляет себя к литературной элите, позабавили бы Диккенса намного сильнее, чем мистер Памблчук и миссис Джеллиби. Он был королем романа в том веке, когда создавался эталон этого жанра.
«Большие надежды» — одновременно великая комедия (о высоком и низменном) и великая мелодрама. Завершая рассказ о первом этапе надежд Пипа, Диккенс пишет: «Видит бог, мы напрасно стыдимся своих слез, — они, как дождь, смывают душную пыль, иссушающую наши сердца». Но мы действительно стыдимся своих слез. Мы живем в то время, когда вкус критиков твердит нам: мягкосердечие сродни глупости. Телевизионная чепуха оказывает на нас такое влияние, что даже в своих отрицательных реакциях на нее мы всё слишком близко принимаем к сердцу; мы приходим к выводу, что любая попытка рассмешить аудиторию или довести ее до слез — это бесстыжее занятие на уровне ситкома, «мыльной оперы» либо того и другого.
Эдгар Джонсон справедливо замечает: «…хотя об ограничениях Викторианской эпохи сказано великое множество слов, в эмоциональном плане ограниченными как раз являемся мы, а не люди того времени. Огромные массы современных читателей, особенно называющих себя “утонченными”, с недоверием воспринимают любое открытое проявление чувств. А уж если они сталкиваются с благородными, героическими или нежными чувствами, такие читатели презрительно или недоверчиво морщатся. Искреннее выражение чувств кажется им преувеличенным, лицемерным или шокирующим». И Джонсон называет причину: «Конечно же, есть объяснение, почему мы так боимся чувств и их проявления. Нас захлестнула лавина “чтива”, авторы которого — вульгарные имитаторы — обесценили методы, заимствованные у великих писателей, и огрубили само понятие эмоций, свойственное писателям прошлого. Все сильные стороны творчества Диккенса сделали его источником такого подражательства».
По мнению современных читателей, если писатель рискует проявить свою сентиментальность, то зачастую он уже виновен. Но поскольку чрезмерный страх перед сентиментальностью могут истолковать как писательскую трусость, писатель старается вообще избегать сентиментальности. Начинающие авторы, стремясь избежать «слащавости», либо отказываются писать о людях, либо не подвергают своих героев эмоциональным крайностям. Что ж, для начинающих это типично и простительно, но схожие тенденции обнаруживаются и у тех, кто вышел из упомянутой категории. Диккенс проявлял чувства, не задумываясь о последствиях. «Видами его оружия были карикатура, бурлеск, мелодрама и неограниченное проявление чувств», — пишет Джонсон.
И еще одна удивительная особенность творчества Диккенса — отсутствие самодовольства и тщеславия. Иными словами, он не стремился быть оригинальным. Диккенс никогда не претендовал на роль исследователя, обнаруживающего виды зла, которые не заметили другие. В равной степени он не был настолько самовлюблен, чтобы посчитать свою страсть к языку и применение языка чем-то особым. Когда он хотел, то мог писать очень изящно, но он никогда не доходил до такой сюжетной скудности, чтобы сводить все произведение лишь к изяществам языка. Здесь он тоже не стремился быть оригинальным. Масштабных романистов никогда не волновало, каким стилем они пишут. Диккенс, Гарди, Толстой, Готорн, Мел-вилл… их так называемый стиль — это любой стиль; они писали всеми стилями. Для таких романистов оригинальность языка — всего лишь мода, которая возникает и проходит. Их волновали и не давали покоя более простые и значимые вещи, не подверженные моде: сюжет, персонажи, смех и слезы.
Тем не менее писатели, считающиеся мастерами стиля, тоже восхищались блистательной техникой Диккенса, признавая, что это у него — врожденное; такому не научить и не научиться. Г. К. Честертон в своей работе «Чарльз Диккенс: критическое исследование» предлагает профессиональный и точный взгляд на писательскую технику Диккенса. Честертон великолепно защищает и диккенсовских персонажей: «Хотя его характеры часто были карикатурны, они вовсе не являлись карикатурами, как считали те, кто никогда не встречал подобных людей». И далее: «Критики вообще не встречали таких персонажей, поскольку критики не жили обычной жизнью английского народа, а Диккенс жил. Англия была более забавным и более ужасным местом, чем это казалось породе рецензентов».
Стоит отметить, что Джонсон и Честертон оба подчеркивают восхищение Диккенса простыми людьми. Зато критики Диккенса делают упор на его эксцентричность. «Не может быть и речи об исторической значимости Диккенса», — утверждают критики. Честертон пишет: «…из человека, не имевшего культурных и иных традиций, не прибегавшего к помощи истории, религии или философии, не учившегося в знаменитых зарубежных университетах, вырвалось пламя настоящего гения и засияло светом, невиданным доселе ни на море, ни на суше, не говоря уже о длинных фантастических тенях, которые отбрасывали в этом свете привычные вещи».
Владимир Набоков подчеркивал, что Диккенс не писал каждую фразу так, словно от нее зависела его репутация. «Когда у Диккенса появлялись мысли, которыми он хотел поделиться с читателями посредством беседы или рассуждений, он обычно не блистал воображением». По мнению Набокова, Диккенс умел заставить читателя читать; он полагался на силу своих описаний в той же степени, в какой полагался на свое умение создать у читателей ощущение эмоционального единства с его персонажами. Очень простой стиль повествования и эмоциональный интерес к героям — вот что заставляет читателей диккенсовского романа читать трехсотую страницу с большим вниманием, нежели тридцатую. «Яркие всплески воображения умело разнесены в пространстве романа», — так пишет об этом Набоков.
«Но разве он не преувеличивал все подряд?» — вопрошают критики.
«Когда говорят о преувеличениях Диккенса, мне кажется, что у этих людей нет ни глаз, ни ушей, — писал Джордж Сантаяна. — Они имеют лишь понятия о людях и вещах, которые принимают с присущим им консерватизмом, как некие дипломатические ценности». Тем, кто утверждал, что в реальной жизни никто не проявляет таких чувств, как у Диккенса, что людей, подобных Уэммику, Джеггерсу или Бентли Драмлу, не существует, Сантаяна отвечал: «Вежливый мир лжив; такие люди есть; в правдивые моменты нашей жизни мы и сами являемся такими людьми». А вот что писал Сантаяна в защиту стилистических «крайностей» Диккенса: «Эта способность, делающая Диккенса превосходным комедиографом, сделала его чуждым для последующего поколения, где люди, обладавшие вкусом, были эстетами, а наделенные добродетелями — высокомерными снобами; они хотели чопорного искусства, а он дразнил их многочисленными импровизациями, им требовался анализ и ход развития, а Диккенс предлагал им абсолютную комедию».
Неудивительно, что популярность Диккенса и сам факт ее существования не спасали его от частых насмешек и превратных толкований. Во время своей первой поездки в Америку Диккенс неустанно обличал тогдашнюю американскую практику игнорирования международного авторского права. Он открыто высказывал свою ненависть к рабству, а также нашел отвратительной и варварской привычку американцев «плеваться повсюду». За эту критику из уст знаменитого англичанина местные критики, не оставшись в долгу, окрестили Диккенса «репортером сиюминутностей» и «знаменитым литературным поденщиком». Его мировоззрение было названо «грубым, вульгарным, дерзким и поверхностным», асам он — «ограниченным» и «самодовольным». Среди всех, кто приезжал в «нашу удивительную и необыкновенную страну», Диккенса посчитали «самым никчемным… по-детски незрелым… самым позорным и презренным…»
Конечно же, у Диккенса были враги, но они не обладали его замечательным творческим чутьем, и их жизнь не шла ни в какое сравнение с его яркой и насыщенной жизнью. Перед началом работы над «Большими надеждами» Диккенс сказал: «Я должен сделать из этой книги максимум возможного — доброе имя». Хорошо сказано. Многие писатели сожалели, что Диккенс их «опередил» и они не могут дать такое заглавие своим романам. А ведь этими словами можно было бы озаглавить немало прекрасных романов. «Великий Гэтсби», «На маяк», «Мэр Кэстербриджа», «И восходит солнце», «Анна Каренина», «Моби Дик» — все это, несомненно, романы о больших надеждах.
2. Узник брака. «Единственное счастье, которого я в жизни так и не изведал…»
«А что вы скажете о его сюжетах? — не унимаются критики. — Вы не находите их неправдоподобными?»
Боже мой, да как у вас язык поворачивается? Интересно, из тех, кто называет сюжет «неправдоподобным», многие ли осознавали, что они вообще не любят никакие сюжеты? По самой природе своей сюжет не может быть абсолютно правдоподобным. Если вы прочли достаточное количество современных романов, вам, скорее всего, непривычно наличие в романе сюжета. Столкнувшись где-то с сюжетной линией, вы бы наверняка посчитали ее неправдоподобной.
Приведу эпизод из недавней истории. Когда в тысяча девятьсот восемьдесят втором году англичане отправились к месту их «маленькой войны» с Аргентиной, для переброски войск они использовали роскошный круизный лайнер «Королева Елизавета II». И что стало высшим военным приоритетом для аргентинцев, значительно уступавших англичанам по численности и вооруженности? Разумеется, потопление «Королевы Елизаветы II», чтобы одержать, по крайней мере, «моральную победу». Вообразите себе этот сюжет! Однако в сообщениях средств массовой информации мы соглашаемся с куда более неправдоподобными сюжетами, чем те, что встречаем в художественной литературе. Литературный сюжет должен быть крепче и цельнее новостных сюжетов; вот почему даже самые маловероятные и неправдоподобные сюжеты зачастую выглядят правдивее событий реальной жизни.
Обратимся теперь к браку Чарльза Диккенса. Историю его семейной жизни, попадись она нам в романе, мы бы сочли весьма неправдоподобной. Когда Диккенс женился на Кэтрин Хогарт, вместе с ними поселилась и младшая сестра Кэтрин — Мэри, которой было всего шестнадцать лет. Мэри обожала мужа своей сестры; ее присутствие наполняло дом бодростью и радостью. Особенно это ощущалось, когда на Кэтрин нападала хандра и она затворялась в своей комнате. Насколько легче быть гостьей, чем супругой. И словно чтобы усугубить не слишком веселую обстановку в доме Диккенсов, через год Мэри умерла, навсегда поселившись в памяти Диккенса и становясь в годы дальнейшей совместной жизни Чарльза и Кейт (так он называл Кэтрин) все более недостижимым идеалом, с которым бедная Кейт никогда не могла соперничать. Девическая невинность Мэри виделась писателю образцом совершенства, и, конечно же, Мэри вновь и вновь появлялась в романах Диккенса то в облике маленькой Нелл из «Лавки древностей», то в образе Агнес из «Дэвида Копперфилда», то в образе Крошки Доррит из одноименного романа. Естественно, се добродетельные черты проступают и в образе Бидди в «Больших надеждах», хотя Бидди довольно критично настроена к Пипу, чего Диккенс никогда не замечал за Мэри Хогарт.
Во время первой поездки в Америку Диккенс вскользь упоминает о треволнениях Кейт в течение всего срока пребывания там (в особенности о ее постоянном беспокойстве за оставшихся в Англии детей). Он также приводит наблюдения служанки Кейт, заметившей, что Америка ни с какой стороны не интересует ее госпожу. Диккенс писал: ступая на борт кораблей и сходя на берег, садясь в поезда или кареты и покидая их, Кейт упала семьсот сорок три раза. Хотя это явное преувеличение, миссис Диккенс действительно отличалась впечатляющей неловкостью. Джонсон предполагает, что она страдала нервным расстройством, сказывавшимся на координации движений. Как-то Диккенс решил занять жену в одном из своих любительских спектаклей. Роль была небольшой — всего в тридцать фраз. Однако Кейт умудрилась провалиться в сценический люк и так серьезно растянула лодыжку, что роль пришлось отдать другой исполнительнице. Похоже, Кейт решилась на этот шаг, чтобы привлечь внимание мужа, поскольку, как и Диккенс, сильно страдала от их совместной жизни.
Когда этот брак, длившийся двадцать три года, стал рушиться, кто смог бы жить под одной крышей с супругами, кроме другой младшей сестры Кейт? Джорджина виделась Диккенсу «в высшей степени восхитительной и нежной девушкой». Ее преданность Чарльзу была настолько велика, что после разъезда Диккенса и Кейт Джорджина осталась с ним. Возможно, она любила его и не только помогала управляться с детьми (Кейт родила Диккенсу десятерых детей). Однако у нас нет оснований предполагать, что между ними существовали интимные отношения, хотя в то время об этом много сплетничали.
К моменту расставания с Кейт Диккенс, вероятно, уже обратил внимание на восемнадцатилетнюю Эллен Тернан — актрису своего любительского театра. Когда Кейт обнаружила браслет, который Диккенс намеревался подарить Эллен (у него была привычка делать актерам небольшие подарки), она обвинила мужа в интимной связи с актрисой. На самом деле интимные отношения между Диккенсом и Эллен, вероятнее всего, начались только после разъезда с Кейт. (Добавлю, что отношения Диккенса с Эллен Тернан были почти такими же несчастливыми и полными упреков, как и его брак с Кейт.) В момент разъезда супругов мать Кейт распространила слух, что Диккенс уже взял Эллен Тернан в качестве своей любовницы. И тогда на первой странице своего весьма популярного журнала «Домашнее чтение», под рубрикой «Личное», Диккенс опубликовал заявление, назвав подобные «измышления» по поводу его нравственного облика «беспардонной ложью». Столь решительный шаг в защиту своей чести вызвал ответный ход: во всех английских газетах и в американской «Нью-Йорк трибюн» появились статьи, подробно описывающие семейную жизнь Диккенса и все детали его разрыва с Кейт. Вы только представьте себе это!
На дворе был тысяча восемьсот пятьдесят восьмой год. Через три года Диккенс сменит название своего журнала, и «Домашнее чтение» превратится в «Круглый год». Писатель и дальше будет следовать выработавшейся изнурительной привычке печатать в журнале свои романы частями. Вскоре Диккенс начнет устраивать частые и продолжительные публичные чтения, которые подорвут его здоровье (за двенадцать оставшихся лет жизни он более четырехсот раз выступит с публичным чтением своих произведений). А еще в этот последний отрезок жизни он напишет «Повесть о двух городах» и «Большие надежды». «Я не в состоянии отдыхать, — признавался Диккенс своему давнему и лучшему другу Джону Форстеру. — Если я позволю слабину, то непременно заржавею, сломаюсь и умру. Гораздо лучше умереть за работой».
Что же касается любви, Диккенс сетовал, что любовь была «единственным счастьем, которого я в жизни так и не изведал, единственным другом и спутником, которого я так и не приобрел». Немалая часть этой меланхолической убежденности отразится в настойчивых попытках Пипа завоевать любовь Эстеллы (и в значительной степени повлияет на первый вариант концовки «Больших надежд»). А медлительность и холодность, с которой совсем юная Эллен Тернан отвечала на ухаживания знаменитого писателя возрастом почти втрое старше ее, заставила Диккенса глубоко прочувствовать тоску Пипа по Эстелле.
С точки зрения Диккенса, его брак с Кейт был тюрьмой, но, разъехавшись с женой, Диккенс столкнулся с публичным скандалом и унижениями, а место надоевшей жены заняла любовница, не торопившаяся проявлять нежные чувства к писателю. Диккенс старался не афишировать своих отношений с Эллен Тернан. Брак, лишенный любви, — этот призрак останется с ним навсегда, равно как мистера Доррита всегда будет преследовать пыль долговой тюрьмы, как холодные болотные туманы последуют за молодым Пипом в Лондон и как «пятно» Ньюгейта повиснет над ним, когда он, исполненный надежд, встретит карету Эстеллы.
Пип — один из диккенсовских сирот, однако он не настолько чист, как Оливер Твист, и лишен любезности Дэвида Копперфилда. Пип — не просто молодой человек, полный нереальных надежд; он еще и плохо воспитанный молодой человек, перенимающий изысканные манеры джентльмена (которым он незаслуженно стал) и в то же время ненавидящий свое низкое происхождение и испытывающий стыд, когда попадает в компанию людей более высокого социального слоя. Пип — сноб. «Бесконечно тяжело стыдиться родного дома», — признаётся он и в то же время спокойно отправляется в Лондон, чтобы наслаждаться новой жизнью, которой обязан своему неведомому благодетелю. Пип абстрактно рассуждает, что угостит каждого жителя деревни ростбифом, сливовым пудингом, добавив к этому пинту эля и «галлон благосклонности».
Скорее всего, время создания «Больших надежд» совпало со временем сомнений, обуревавших Диккенса; по крайней мере, он переживал мучительную переоценку чувства собственного достоинства. Он никогда не рассказывал детям про свою работу на фабрике по изготовлению сапожной ваксы. И хотя его происхождение было куда выше, чем у юного Пипа, Диккенс считал свое происхождение достаточно низким. Он так и не смог забыть глубочайший упадок духа, который испытал в Хангер-форд-Стерз, наклеивая этикетки на коробочки с ваксой.
Испытывал ли он еще и чувство вины, считал ли, что и некоторые его начинания имеют лишь видимость благородных, достойных джентльмена дел, а за нею скрывается пустота? Диккенс явно не симпатизирует аристократическим замашкам Пипа; он с оттенком презрения говорит о таинственных средствах и тщательно продуманных приготовлениях, позволяющих Пипу вести «плавную» жизнь и быть «выше работы». В конце — как часто бывает в диккенсовских романах — происходит «смягчение сердца»; трудовой этике — этому бастиону среднего класса — милосердно даруется определенная дань уважения. «Мы не вершили особенно крупных дел, — впоследствии скажет о своей работе Пип, — но пользовались добрым именем, и честно трудились, и жили безбедно». Эти слова из романа подкрепляют мысль Честертона: «Диккенс не писал о том, чего хотят люди. Он хотел того же, что и они». И это существенное различие, особенно если учесть популярность Диккенса. Этот человек не писал для читательской аудитории то, что она жаждала увидеть; он делал удивительно живым то, чего читатели боялись, о чем мечтали и чего хотели.
Нынче часто бывает необходимым защищать писательскую популярность. Время от времени в литературных кругах становится модной мысль о том, что популярность — признак дурного вкуса; если писатель популярен, может ли он быть хорошим? И частоте, кому досталось меньше таланта, начинают принижать достижения писателей, чья репутация и круг читателей значительно выше, чем у них. Так, Оскар Уайльд в год смерти Диккенса был подростком. Рассуждая о диккенсовской сентиментальности, Уайльд замечает: «Понадобилось бы стальное сердце, чтобы не рассмеяться над смертью малышки Нелл». Все тот же Уйальд однажды сказал, что речь Флобера находится на уровне речей какого-нибудь мясника, торгующего свининой. Флобер не был оратором, зато Уайльд больше всего запомнился своими цветистыми речами. А вот писательское творчество Уайльда, в сравнении с Диккенсом и Флобером, находится на уровне сочинений торговца свининой. Честертон, родившийся через четыре года после смерти Диккенса и работавший в тот период, когда к писательской популярности относились с подозрением, очень резко отметал все обвинения, направленные против популярности Диккенса. По словам Честертона, истории придется обратить на Диккенса внимание хотя бы потому, что «этот человек вел за собой толпы».
Диккенс был неистощим и великолепен на описания; он умел создать яркую и живую атмосферу вокруг всего, заставив читателей нутром ощущать ту или иную сцену, радуясь или замирая от ужаса. Это относится к сильным сторонам его таланта. Но если говорить о его слабостях, их легче всего отыскать в концовках романов, нежели в начале или середине. В конце Диккенс, как добрый христианин, стремится всех простить и помирить. Враги обмениваются рукопожатиями (и даже вступают в брак!), сироты обретают семью. Мисс Хэвишем, поистине ужасная женщина, кричит Пипу, которым она помыкала и которого обманывала: «…кто я такая, боже правый, чтобы требовать от меня милосердия?» И тем не менее, когда она просит у Пипа прощения, он ее прощает. Мэгвичу, невзирая на всю его отнюдь не праведную жизнь, Диккенс позволяет себе умереть с улыбкой на губах, подкрепляемый сознанием, что его пропавшая дочь жива. Попробуйте сказать о неправдоподобии таких концовок! Ужасная сестра Пипа умирает, тем самым позволяя доброму Джо жениться на достойной женщине. В переработанной версии «Больших надежд» безответная любовь Пипа получает ответ, и он уже не видит «тени новой разлуки с Эстеллой». Это — механическое сватовство; оно нереалистично, оно излишне гладенькое, словно чистота формы романа требует, чтобы все герои соединились. С позиций нашего циничного времени с его циничными упованиями такое может показаться чрезмерно обнадеживающим.
Надежда на лучшее будущее, благодаря которой все так любят «Рождественскую песнь», высекла огонь, и Диккенс потом использовал его в «Больших надеждах», когда Рождество миновало. Многих задевает оптимизм Диккенса, кажущийся им прекраснодушными мыслями. Первый вариант концовки «Больших надежд», когда Пипу не суждено соединиться с Эстеллой, большинству современных критиков кажется правильным (и, естественно, современным) завершением романа, а отказ Диккенса от такого завершения они называют «переменой ума и сердца» и отходом от своих принципов. После мелочных целей своей юности Пип должен был наконец увидеть ложность прежних ценностей (включая и Эстеллу) и стать мудрее, хотя и печальнее. Многие читатели убеждены: Диккенс злоупотребляет читательским доверием, когда в переработанной версии заставляет нас верить, будто Эстелла и Пип смогут жить вместе долго и счастливо и что такое вообще возможно. О новой концовке, где Эстелла и Пип встретились, чтобы уже не расставаться, Диккенс так говорил своему другу: «Я вставил замечательный фрагмент и ничуть не сомневаюсь, что изменение сделает сюжет более приемлемым». И ни слова о том, что Эстелла может оказаться негодной женой для Пипа. Главное: Эстелла и Пип связаны; сама судьба избрала их друг для друга. А счастливый ли это выбор или нет — Диккенс ответа не дает.
Хотя предполагается, что Диккенс изменил первый вариант концовки по предложению своего друга Булвер-Литтона, выразившего пожелание, чтобы книга заканчивалась на более счастливой ноте, я скорее склонен согласиться с разумным выводом Эдгара Джонсона: «Измененная концовка отражала отчаянную надежду, которую Диккенс не мог изгнать из своего сердца». Это изменение продиктовано не какой-то мыслью, вдруг пришедшей ему в последнюю минуту; оно отражает надежду, сохраняющуюся на протяжении всего романа, — надежду на перемену в характере Эстеллы. Ведь меняется же Пип (он — первый из главных героев Диккенса, кто меняется вполне реально, хотя и медленно). Роман не просто так назван «Большие надежды». Такое заглавие не могло предполагать целиком горестное повествование. Правда, можно сокрушить этот довод, напомнив, что мы впервые слышим о Пипе как о «молодом парне с большими надеждами» от грозного и циничного мистера Джеггерса — этого ветерана бескомпромиссности, который вполне обоснованно предостерегает Пипа: «Никогда не верьте тому, что кажется; верьте только доказательствам. Нет лучше правила в жизни». Однако это правило никогда не было правилом Диккенса. Мистер Грэдграйнд из романа «Тяжелые времена» не верил ничему, кроме фактов, и не владел ничем, кроме фактов. Однако Диккенс следует совету шепелявого мистера Слири: «Ищите в нах доброе…» И концовка романа, в которой Эстелла и Пип соединяются, добра и мудра.
Фактически для Диккенса и для романа нехарактерным был именно первый вариант концовки. Целых два года Пип не видел Эстеллы (до него лишь доходили слухи о ней). И теперь, после встречи с нею, он с щемящим сердцем говорит: «Впоследствии я очень радовался тому, что у нас состоялся этот разговор, ибо лицом своим, своим голосом и прикосновением она уверила меня, что ее страдания были сильнее уроков мисс Хэвишем и позволили ей понять то, что всегда было в моем сердце». И хотя тон Пипа — несколько покровительственный и исполненный жалости к себе — воспринимается более современным, нежели романтический второй вариант окончания романа, я не понимаю, что выиграли бы мы и литература, если бы Диккенс сохранил первоначальный вариант. В тех словах Пипа ощущается современная отрешенность, даже самодовольство. Но не стоит забывать одну особенность характера Чарльза Диккенса: энергичный и деятельный в счастливые моменты жизни, он становился вдвойне деятельным, когда на него обрушивались несчастья. В первом варианте концовки Пип хандрит; сам Диккенс никогда не хандрил.
В измененном варианте роман завершается так: «Я взял ее за руку, и мы пошли прочь от мрачных развалин; и так же, как давно, когда я покидал кузницу, утренний туман подымался к небу, так теперь уплывал вверх вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки». Замечательный фрагмент, пользуясь словами Диккенса, и навсегда открытый, поскольку неопределенность сохраняется (вспомним разбитые надежды Пипа), но такое окончание в большей степени отражает состояние достоверности во всем романе. И именно за эту полную надежд концовку (хотя в ней много противоречий) нам стоит любить Диккенса, поскольку она одновременно подчеркивает и перечеркивает все, что происходило до сих пор. По сути своей, Пип добр и доверчив; он начинает свой жизненный путь вполне по-человечески, он учится на собственных ошибках, стыдясь самого себя, но продолжая оставаться человеком. Этот трогательный алогизм кажется не только щедрым, но и правдивым.
«Я полюбил Эстеллу любовью мужчины просто потому, что иначе не мог», — с горечью признается Пип. О своей влюбленности он замечает: «Но как мог я, жалкий, одураченный деревенский парнишка, избежать той удивительной последовательности, от которой не свободны и лучшие и умнейшие из мужчин?» А что Пипу и нам скажет о любви мисс Хэвишем? «Я тебе скажу, что такое настоящая любовь, — продолжала она торопливым, неистовым шепотом. — Это слепая преданность, безответная покорность, самоунижение, когда веришь, не задавая вопросов, наперекор себе и всему свету, когда всю душу отдаешь мучителю… как я!»
Ярость брошенной невесты — так можно назвать состояние, в каком годами пребывала мисс Хэвишем. Она продолжала носить полуистлевшее подвенечное платье и, по собственному признанию, заменила сердце Эстеллы куском льда, чтобы сделать Эстеллу еще более искусной в безжалостном разрушении мужских судеб. Это ее месть за собственную разрушенную судьбу. Мисс Хэвишем — одна из величайших ведьм в истории сказок, поскольку она на самом деле такова, какой кажется с первого взгляда. Впервые встретившись с нею, Пип находит ее более злой и жестокой, чем беглого каторжника, с которым судьба столкнула его на болотах. В дальнейшем она злорадствует, видя заблуждения Пипа (ему начинает казаться, что мисс Хэвишем вовсе не ведьма, как он поначалу думал, а просто эксцентричная крестная мать). Она знает, что Пип заблуждается, но поощряет его в этом заблуждении; она — соучастница зла. В конце мисс Хэвишем, естественно, предстает в своем истинном обличье ведьмы. Это — настоящая магия, настоящая сказка, однако многие критики Диккенса считают, что эксцентричность мисс Хэвишем делает се менее достоверным персонажем.
Возможно, критики удивились бы, узнав, что мисс Хэвишем не была исключительно плодом писательского воображения. В молодости Диккенс часто встречал на Оксфорд-стрит безумную женщину. Впоследствии он написал о ней очерк в своем журнале «Домашнее чтение». Очерк назывался «Где мы перестали расти». В нем описывалась «Белая Женщина… одетая во все белое… В белых сапожках она пробирается по зимней слякотной грязи. Она — тщеславная старуха, ее манеры холодны и чопорны. Очевидно, что причины ее помешательства имели исключительно личный характер; скорее всего, какой-нибудь богатый квакер не пожелал на ней жениться. Белая одежда — ее подвенечное платье. Она всегда… держит путь в церковь, чтобы обвенчаться с воображаемым квакером. Мы видим ее жеманную походку и рыбьи глаза, которым она пытается придать остроту жизни. Мы перестали расти, когда пришли к заключению, что квакер счастливо сбежал от Белой Женщины». Это было написано за несколько лет до создания «Больших надежд», а за три года до написания романа Диккенс опубликовал в литературном приложении к «Домашнему чтению» рассказ о реальном происшествии, когда на женщине, стоящей возле рождественской елки с зажженными свечами, загорелась одежда. Женщину удалось спасти, но она получила ожоги. Спас ее находившийся поблизости молодой человек: он повалил женщину на пол и накрыл ковром, сбив пламя. Почти так же Пип спасет мисс Хэвишем, когда на ней загорится подвенечное платье.
Диккенс был не столько изощренным выдумщиком и создателем неправдоподобных персонажей и ситуаций, сколько пристальным и неутомимым наблюдателем реальных жертв среди современников. Он выискивал обделенных судьбой и отвергнутых обществом, но не тех, кто счастливо избежал всех превратностей, а тех, кто стоял, глядя в лицо невзгодам, или сопротивлялся им. Обвинение Диккенса в погоне за сенсациями обычно исходило от чопорных, устроившихся в жизни людей, уверенных, что жизнь движется в нужном направлении, ничем им не угрожая, а потому только такая жизнь и может быть правдивой.
«Ключ к главным персонажам романов Диккенса, — пишет Честертон, — скрыт в простом факте: все они — большие глупцы. Разница между большим и малым глупцом такая же, как между большим и заурядным поэтом. Большой глупец — тот, кто находится над мудростью, а не ниже ее». Главная и захватывающая особенность «большого глупца» — конечно же, его способность к разрушению (в том числе и к саморазрушению) и к созданию вокруг себя неразберихи и опустошения. Вспомните шекспировских героев: Лира, Гамлета, Отелло; все они, естественно, были «большими глупцами».
Существует направление, по которому, не колеблясь, часто устремляются все большие глупцы, описанные в мировой литературе. Они либо попадают в ловушку собственной лжи, либо становятся жертвами чужой лжи (иногда то и другое вместе). В истории, где действующим лицом оказывается большой глупец, обязательно присутствует и большая ложь. Разумеется, наиболее впечатляющей лгуньей в «Больших надеждах» является мисс Хэвишем; ее ложь носит, так сказать, заместительный характер. Пип лжет сестре и Джо, рассказывая им о своем первом визите к мисс Хэвишем; он говорит, что у нее в зале стоит «черная бархатная карета», а четыре «громадных» собаки «ели телячьи котлеты из серебряной корзины и передрались». Тогда Пип и не подозревал, что его ложь окажется менее причудливой, чем правда о жизни мисс Хэвишем в Сатис-Хаусе и взаимосвязанность ее жизни с его собственной (с тем и другим он впоследствии неожиданно столкнется в так называемом внешнем мире).
У каторжника Мэгвича, до смерти напугавшего юного Пипа в начале романа, окажется более благородное сердце, чем у самого Пипа. «Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел…» Пип видит этого человека, который исчезает среди болот, и «виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место». Этот человек в дальнейшим станет образцом чести. И подобная метаморфоза — часть великого озорства и неподдельного развлечения, называемого сюжетом «Больших надежд». Сюжет для Диккенса — источник развлечения; он просто наслаждается, разворачивая сюжет перед читательской аудиторией. Удовольствие Диккенса было еще сильнее оттого, что большинство его романов печаталось в виде последовательных выпусков (сейчас их бы назвали литературными сериалами), и среди подарков, которые писатель делал своим постоянным читателям, были впечатляющие и удивительные совпадения. Критик, насмехающийся над случайными встречами диккенсовских героев и случайностью иных событий, в высшей степени зависящих от обстоятельств, должно быть, так и не сумел развить в себе умение радоваться и получать удовольствие.
Диккенс, не стыдясь, писал для своих читателей. Он бранил их и распекал, соблазнял, шокировал, незатейливо развлекал и читал им проповеди. По словам Джонсона, целью Диккенса было «не вызывать отвращение, а волновать сердца». Однако я сильно подозреваю, что в современном мире, где сердца стали куда жестче, Диккенсу, скорее всего, пришлось бы и вызывать отвращение. Это был бы способ пронять ожесточившиеся сердца. Диккенс не стыдился своей цели; он льстил читателям, изрядно развлекал их — и все для того, чтобы их глаза оставались открытыми и чтобы читатели не отворачивались от его гротескных видений, от его почти постоянного нравственного негодования.
Возможно, он почувствовал, что в «Больших надеждах» причинил Пипу и Эстелле немало страданий (заставив страдать и читателей). Так почему бы в конце романа не позволить своим героям обрести друг друга? Диккенсу не довелось испытать «единственного счастья» и обрести «единственного друга и спутника». Но Пипу он в этом счастье не откажет, и Пип получит свою Эстеллу.
3. «Ни сочувствия, ни поддержки» в «сверкающем сонме». В «разрушенном саду»
«Так как же все-таки насчет сюжета?» — упрямо продолжают спрашивать критики Диккенса. Как можно верить его сюжетам?
Да очень просто: всего лишь примите как факт, что любой человек, имеющий хоть какое-то эмоциональное значение для вас, связан со всеми другими, имеющими для вас такое же эмоциональное значение. Разумеется, эти связи не обязательно должны быть кровными, но люди, эмоционально изменившие вашу жизнь, — все эти люди из различных мест и различных эпох, включая множество несвязанных совпадений, тем не менее «связаны». Мы общаемся с другими людьми по эмоциональным причинам, а не по причинам, обусловленным фактами; поэтому есть люди, никогда не видевшие друг друга и не знающие о существовании друг друга. Есть люди, которые нас знали, но забыли. В каждом романе Чарльза Диккенса подобные люди связаны: иногда даже кровными узами, но всегда — обстоятельствами, почти всегда — совпадениями и прежде всего — сюжетом. Посмотрите, какую силу представляет собой мисс Хэвишем: каждый персонаж, имеющий определенное значение для Пипа, оказывается тем или иным образом связанным с нею (или был связан прежде)!
Мисс Хэвишем сознательно обманывает и намеренно творит зло. Она гораздо хуже какой-нибудь желчной старухи, осточертевшей всем своим истерическим эгоизмом (хотя подобные черты свойственны и ей). Она деятельна, она активно обольщает Пипа — разумеется, не сама, а с помощью Эстеллы, которую заставляет мучить юношу. Если вы настолько лишены воображения, что думаете, будто таких людей не существует, признайте хотя бы то, что мы (большинство из нас), как и Пип, позволяем обольщать и обманывать себя. Пип предупрежден. Его предупреждает сама Эстелла. «Большие надежды» — роман не столько об абсолютном зле мисс Хэвишем, сколько о надеждах Пипа, преобладающих над его здравым смыслом. Пип хочет стать джентльменом, хочет завоевать расположение Эстеллы, и голос амбиций звучит в нем намного сильнее голоса чувств. А разве мы сами никогда не вели себя так?
Не нападайте на Диккенса за его «излишества». Недостатки «Больших надежд» немногочисленны, и это недостатки, вызванные недоработкой отдельных мест романа, а не их «зализанностью». Так, поспешно возникшая, почти мгновенная дружба между Пипом и Гербертом набросана схематично. У нас нет возможности прочувствовать ее по-настоящему. Нам предлагается принять абсолютную добродетельность Герберта как само собой разумеющуюся (Диккенс нигде особо и не показывает добродетельные стороны этого человека). Что касается прозвища Гендель, которое Герберт дает Пипу, поскольку у знаменитого композитора есть пьеса «Гармоничный кузнец», — эта логика сводит меня с ума! Мне намного сложнее поверить в прекраснодушные качества Герберта, чем в зло мисс Хэвишем. А любовь Диккенса к актерам любительских трупп перехлестывает возможность ярко и с интересом вывести фигуру мистера Уопсла и показать амбиции этого недалекого человека. Тридцатая и тридцать первая главы откровенно скучны. Возможно, Диккенс писал их наспех, либо он на какое-то время утратил интерес к роману. Какими бы ни были причины, эти главы нельзя назвать примерами диккенсовской «писательской лихорадки». В тех местах, где видно, что автор переусердствовал, ощущается по меньшей мере биение его кипучей энергии.
Джонсон пишет: «Диккенс проявлял к людям симпатии и антипатии, но никогда не был к ним равнодушен. Он любил и смеялся, высмеивал, презирал и ненавидел; он никогда не относился к людям покровительственно или с пренебрежением». Посмотрите на Орлика: он опасен, как дурно воспитанный пес. Диккенс почти не симпатизирует социальным обстоятельствам, лежащим в основе злодейства этого человека. У Диккенса он и показан просто и без прикрас — собака, натасканная на убийство. Или взять Джо: человека гордого, честного, работящего, не жалующегося и постоянно проявляющего добрую волю вопреки шумному и крикливому окружению, которое не умеет оценить его качеств. Диккенс тоже рисует его просто и без прикрас — как человека, не способного причинить зло кому бы то ни было. Несмотря на обостренное чувство социальной ответственности и понимание социальной среды, Диккенс верил в добро и зло; он верил, что есть люди по-настоящему добрые и по-настоящему злые. Он любил каждое настоящее проявление добродетели, каждое доброе чувство. Он ненавидел жестокость во всей ее многоликости и не уставал высмеивать лицемерие и эгоизм. Быть равнодушным Диккенс не умел.
Он предпочитает Уэммика Джеггерсу, однако Джеггерс вызывает у Диккенса скорее страх, чем ненависть. Джеггерс слишком опасен, чтобы его презирать. Будучи подростком, я думал, что привычка Джеггерса постоянно мыть руки и ковырять перочинным ножом за ногтями вызвана реакцией на моральную нечистоплотность большинства его клиентов. Я воображал, будто у Джеггерса сложился некий «ритуал» избавления от моральной грязи, накапливающейся из-за постоянного общения с преступными элементами. Сегодня эта точка зрения представляется мне верной лишь отчасти. Джеггерсу никогда не удастся отмыться дочиста. Сейчас я все больше склоняюсь к убеждению, что грязь Джеггерса — это неизбежная грязь, вызванная действием самого закона. К нему цепляется не только грязь клиентов, но и грязь его профессии. Вот почему Уэммик человечнее Джеггерса. Пипа удивляет, что Уэммик «расхаживает среди заключенных, точно садовник среди своих растений». Тем не менее Уэммик способен проявлять свои «уолуортские сентименты», когда он дома, рядом с отцом, которого он именует «престарелым». У мистера Уэммика, вопреки всем социальным наслоениям, доброе сердце. Ему удается хотя бы на время соскребать с себя эти наслоения, чего не скажешь о Джеггерсе. Дом Джеггерса мало чем отличается от его конторы, а присутствие экономки Молли — убийцы, избежавшей виселицы только потому, что ее спас Джеггерс, — окружает обеденный стол адвоката тюремной аурой Нью-гейта.
Конечно, есть чему поучиться и у Джеггерса. Например, внимание, уделяемое им тупому злодею Драмлу, открывает Пипу глаза на обман и несправедливость, царящие в мире, где шкала ценностей обусловлена деньгами, занимаемым положением и жестокой нахрапистостью, гарантирующей успех. Через ненависть к Драмлу Пип немного узнаёт и о себе: он замечает, что «мы совершаем самые трусливые и недостойные поступки с оглядкой на тех, кого мы ни в грош не ставим». Роман показывает постепенное взросление Пипа, которому наука постижения людей дается медленно и нелегко. Пип думает, что с самого начала раскусил Памблчука. Степень лицемерия Памблчука, его раболепие, вранье и ложная преданность сначала воспринимаются Пипом с одних позиций, но стоит его собственной судьбе круто измениться, как он удивленно пересматривает свои оценки, испытывая изумление и получая жизненный урок. Памблчук — сильный второстепенный персонаж, вроде бы хороший человек, но вызывающий ненависть. Современная литература утратила способность хвалить так, как умел хвалить Диккенс (не сдерживая своих похвал), и ненавидеть, как ненавидел он (полностью, безоговорочно). Не наша ли робость и запутанные воззрения современных социологов и психологов на злодейство изгнали из литературы не только законченных злодеев, но и совершенных героев?
Диккенс относился к своим персонажах со страстностью — даже к большинству выведенных им злодеев. «В его книгах зануды живее и остроумнее, чем мудрецы — в наших», — замечает Честертон. «Два главных намерения Диккенса — заставлять тело содрогаться от ужаса, а бока — болеть от смеха, были… братьями-близнецами его духа», — пишет далее Честертон. Несомненно, любовь Диккенса к театральным представлениям сделала каждого из его персонажей актером. Поскольку все они актеры и потому все важны, все диккенсовские персонажи ведут себя драматически. Герои и злодеи в равной степени наделены запоминающимися качествами.
Мэгвич — мой герой. Самые захватывающие, самые проникновенные страницы «Больших надежд» посвящены этому каторжнику, который рискует жизнью, чтобы увидеть, каким стало его «творение». Диккенс щадит Мэгвича, избавляя его от печальной правды: «творение» получилось неважнецким. А какова история жизни самого Мэгвича! Не кто иной, как Мэгвич, оживляет драматическое начало романа: беглый каторжник до смерти пугает мальчишку, требуя принести ему еды и напильник для ножных кандалов. Вернувшись в Лондон, Мэгвич, за которым охотятся, не только вносит свой вклад в драматическое завершение книги; он с тем же напором разрушает надежды Пипа, с каким создавал их. И не кто иной, как Мэгвич, добавляет недостающее звено к истории несостоявшегося замужества мисс Хэвишем. От него мы узнаём, кто такая Эстелла.
«Разрушенный сад» — это усадьба Сатис-Хаус, в саду которой сорняки заглушили некогда существовавшую там красоту. В зале — сгнившие остатки свадебного пирога, загаженного мышами и затянутого паутиной. Пипу (да и Эстелле тоже) никогда не избавиться от «налета» этого дома-тюрьмы. Связь с непонятным преступлением, ощущаемая юным Пипом в самые важные моменты его ухаживаний за Эстеллой, предвещает шокирующее открытие. Оказывается, Пип теснее, чем думает, связан с каторжником Абелем Мэгвичем. А когда раскрываются истинные обстоятельства, у Пипа почти пропадает желание шутить и смеяться. Даже в детстве, испытывая унижения, он не терял чувства юмора (по крайней мере, в своих воспоминаниях). Он вспоминал, как на его долю «доставались только жесткие куриные лапки и те глухие закоулки окорока, которыми свинья при жизни имела меньше всего оснований гордиться». Но стоило Пипу узнать, кто же на самом деле его благодетель, и повествование Диккенса почти утрачивает остроумие. Сюжет начинает раскручиваться все быстрее, а язык становится все проще.
Когда требовалось, Диккенс умел писать сочно и даже цветисто; в иных случаях, когда он хотел, чтобы читатель просто следовал за развитием событий, он был скуп на слова. Однако Диккенс всегда помнил о читателях. Он достаточно поздно, за несколько лет до смерти, начал выступать с публичными чтениями; тем не менее язык его произведений всегда был рассчитан на чтение вслух. Эти повторения, словно припевы в песне, эти подробные, до мелочей, описания впервые появляющегося в романе персонажа или нового места и, конечно же, обилие знаков препинания — все это сделано ради читателей. Можно сказать, что Диккенс «перехлестывает» с пунктуацией. От этого его длинные и вроде бы трудные фразы замедляют темп повествования, но становятся более удобными для чтения, словно пунктуация служит здесь сценическими ремарками (это при чтении вслух), а человек, читающий роман в выпусках, нуждается в постоянном напоминании о содержании предыдущих глав. В своих фразах Диккенс предельно четок и ясен. Он мастерски владеет знаком препинания, способным превращать короткие фразы в длинные, а длинные — делать читабельными. Этот знак — точка с запятой! Диккенс не позволяет читателю заблудиться и в то же время не хочет, чтобы читатель перескакивал через страницы. Читать Диккенса «по диагонали» вообще тяжело: вы слишком многое теряете и перестаете понимать ход событий. Диккенс специально делал каждое предложение удобочитаемым, поскольку хотел, чтобы вы прочитали каждое предложение.
Представьте, что вы пропустили эту фразу: «Замечу, кстати, что едва ли кто из ныне живущих столпов науки лучше меня знает, как болезненно действует на человеческую физиономию грубое прикосновение обручального кольца». В романе эта фраза заключена в скобки; она сказана как бы мимоходом. Пип рассказывает о том, как сестра принялась отмывать ему лицо, — ведь Пипу завтра предстояло впервые отправиться к мисс Хэвишем. Однако внимательный читатель поймет: Диккенс здесь вздыхает о тяготах собственного брака. И разве трудно представить, что тяжелые, полные унижений месяцы работы на фабрике по изготовлению сапожной ваксы найдут свое отражение в рассуждениях Пипа об отупляюще тяжелой работе в кузнице? «Дети, кто бы их ни воспитывал, ничего не ощущают так болезненно, как несправедливость». «Несправедливость» всегда оставалась для Диккенса одной из главных тем, и особую ярость в нем вызывала несправедливость к детям. Восприимчивость ребенка, соединяясь с невеселыми мыслями автора, преодолевшего пятидесятилетний рубеж и убежденного в том, что все лучшее и счастливое в его жизни уже позади, а впереди его ждет только одиночество, — этот сплав чувств владеет Пипом, который зимним вечером думает о том, что на болотах не выдержать такую ночь: «А потом я посмотрел на звезды и представил себе, как страшно, должно быть, замерзающему человеку смотреть на них и не найти в их сверкающем сонме ни сочувствия, ни поддержки».
Эти блистательные сцены, разбросанные по страницам «Больших надежд», действуют столь же завораживающе, как и характеры героев романа, и сам сюжет, заставляя склонить голову перед его простотой и величием. Диккенс был свидетелем того, как мир с пугающей быстротой двигался ко все более могущественному и менее человечному устройству; он видел, как нарастала людская алчность. «Со страстным негодованием он защищал золотую середину», — пишет Эдгар Джонсон. Диккенс верил, что для защиты человеческого достоинства необходимо сохранять и развивать в человеке личность.
К тому моменту, когда Диккенс закончил первый вариант «Больших надежд», стало сказываться неимоверное напряжение, с каким он всегда трудился. Он чувствовал себя уставшим и измотанным. Правда, ему удалось написать еще один роман — «Наш общий друг» (1864–1865). А «Тайна Эдвина Друда» осталась незавершенной… Весь последний день своей жизни Диккенс работал над этим романом. Вот последняя фраза, которую он написал: «Холодные каменные могильные плиты, положенные здесь столетья назад, стали теплыми; солнечные блики залетают в самые сумрачные мраморные уголки и трепещут там, словно крылья». Затем он набросал несколько писем, в одном из которых, по свидетельству Джонсона, процитировал монаха Лоренцо, предостерегающего Ромео: «Мой сын, восторг стремительный нередко имеет и стремительный конец…» Возможно, то было предчувствие. В своих романах Диккенс обожал предчувствия.
Чарльз Диккенс умер от инсульта теплым июньским вечером тысяча восемьсот семидесятого года. В момент смерти глаза его были закрыты, но на правой щеке блестела слезинка. Ему было всего пятьдесят восемь лет. Его гроб целых три дня простоял открытым в Вестминстерском аббатстве. Тысячи и тысячи людей приходили отдать последний долг тому, кто когда-то трудился за гроши в Хангерфорд-Стерз, наклеивая этикетки на коробочки с ваксой.
Назад: ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Дальше: «Король романа» (1979) От автора

