Книга: Иван III — государь всея Руси (Книги четвертая, пятая)
Назад: Глава 17 Угра
Дальше: Глава 2 Против папы и цесаря
Книга пятая
Государь всея Руси
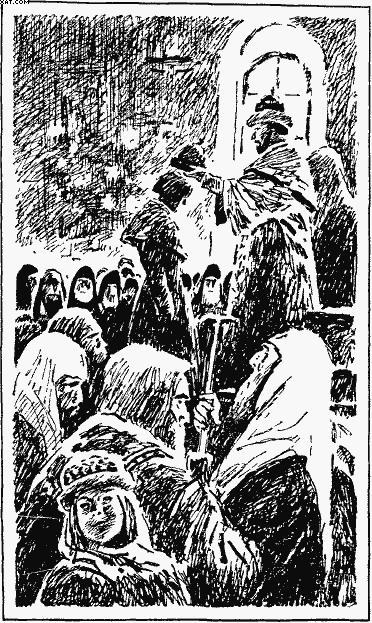
Глава 1
Первые шаги

Вскоре после бегства татар от берегов Угры установилась на Руси зима, хоть и морозная, но тихая, без ветров, с яркими светозарными полднями. С середины же января, когда Петр — Павел дня прибавил, переменились суровые зори вечерние: не багряные уже, а золотисто-прозрачные, и снега от них отсвечивают ласковым янтарным блеском, бросая синеватые тени.
Государь Иван Васильевич и сын его Иван Иванович в такие ясные студеные дни, надев простые полушубки, меховые ушанки и длинные пимы, любили скакать по твердым наезженным дорогам и слушать, как морозный снег скрипит и взвизгивает под копытами коней.
Взяв своих стремянных и небольшую стражу, часто ездили они за город, на левый берег Неглинной, где под наблюдением маэстро Альберти заканчивалась стройка Пушечного двора. Там уже второй год русские мастера отливали медные пушки по образцу болонских, а иногда лили большие колокола.
На Пушечном дворе постоянно дымились в разных местах сыродутные горны с ручными мехами для выплавки меди и небольшие печи-домницы для выплавки железа.
Оба великих князя уже видели все эти печи не раз, но сегодня, января семнадцатого, позвал их маэстро Альберти на окончание выплавки железа в большой круглой домне, построенной самим маэстро. Государям показали, как эту огромную печь, подобно малым домницам, наполнили почти доверху древесным углем, а сверху засыпали смесь «гороховой» железной руды с известняком, сильно облегчающим плавку.
— Хороша эта руда, — говорил тогда маэстро по-итальянски молодому государю, — железо из нее ковко и тягуче, а из иных руд оно хрупко, легко разбивается и мало на что годно…
Узнав об этом, Иван Васильевич велел сыну спросить, откуда такая хорошая руда.
— С Железного поля, государь, — передал Иван Иванович ответ маэстро.
— Истинно добрая там руда, — подтвердил государь, — ведом мне сей край. Лежит он при устье речки Ижины, которая в Мологу впадает. Железное-то поле от сих рек до самой Дубровки идет…
— Днесь, государь, плавка из железнопольской руды, — продолжал Иван Иванович переводить объяснения маэстро Альберта, — надобно вот крицу, пока она не остыла, мягка и вся ноздриста, ковать у малых домниц; крицы куют вручную двойным молотом. В сей же домнице крица-то будет пудов на двенадцать. Посему я водяной молот придумал. Вот он…
Маэстро показал на наковальню раз в десять больше обычной и укрепленную между двух толстых бревен, врытых в землю, а наверху втянутых железной полосой. На наковальне — тяжелая железная кувалда. От нее идет вверх толстый крепкий канат, перекинутый у самой скрепы бревен через глухое дубовое колесо с желобом по краю. Скользя по желобу колеса, канат этот снова спускается к земле к деревянному валу. Этот вал, соединенный с особым мельничным колесом, может вращаться с большой скоростью силой воды, отведенной от Неглинной реки в узкий, но глубокий и быстрый ручей.
Государи еще не успели подробно ознакомится со всем устройством водяного молота, как маэстро, сняв шапку и делая глубокий изящный поклон, громко заявил через своего толмача:
— Прошу, государи, отступить сюда вот, в сторону, ибо мы будем сейчас у домны ломать переднюю стенку, которая сложена всухую, дабы легче и быстрее вынуть крицу и не остудить ее…
Последовало несколько ударов железными ломами, и кирпичи, не скрепленные глиной, посыпались к ногам рабочих. В глубине печи отчетливо обозначилась огненно-красная глыба железа. Длинными кочергами рабочие вытащили крицу, навалив ее на железные носилки.
В это время деревянный вал стал со скрипом вращаться, и железная кувалда пошла вверх. Рабочие торопливо поднесли крицу к наковальне и свалили на нее раскаленное железо, на котором темные отверстия и щели ясно показывали его ноздреватое строение. Рабочие едва успели отскочить от наковальни, как сверху мелькнуло что-то темное, и в тот же миг земля слегка дрогнула под ногами от глухого удара, а с наковальни полетели во все стороны большие и малые искры и с коротким шипением исчезли в снегу…
Удары кувалды следовали один за другим все чаще и чаще, и темнеющая глыба железа на глазах у всех превращалась в толстую плиту. Тогда рабочие, ухватив ее огромными клещами с длинными ручками, передвинули ближе к краю наковальни. Потом, когда оставшийся под ударами край плиты стал несколько тоньше, железную плиту снова втолкнули толстым краем под кувалду, а более тонкий край вышел немного наружу с другой стороны наковальни.
Водяной же молот все бил да бил без устали по тяжелой шершавой плите, все более и более уплотняя железо, отбивая посторонние примеси и окалину. Выкованная полоса теперь уже заметно остывала, принимая вид настоящего поковочного железа с его обыкновенным блеском.
Когда работа водяного молота прекратилась, маэстро Альберти снова обратился через своего толмача к государям:
— Это железо будет ковко и тягуче. Из него можно ковать сабли, копья, ножи, топоры, серпы и косы, а потом закалить твердо, придав им великую крепость и остроту. Из этого же железа хорошо лить и малые пищали-рушницы, из которых с рук можно бить огненной стрельбой…
Оба государя, весьма довольные работой Пушечного двора, благодарили маэстро Альберти, а тот, сияя от радости, обратился к молодому государю по-итальянски:
— Прошу вас пожаловать сюда через шесть дней. Увидите, как я лить буду колокол для Чудова монастыря…
Когда государи в сопровождении своей стражи выехали с Пушечного двора, Иван Иванович сказал отцу:
— Верю, будет ныне у нас так много своих пушек и пищалей, что сможем снарядить мы пушкарские полки для нашего постоянного войска.
— И яз хочу сему верить, Иване, — задумчиво ответил государь. — Токмо одного мастерства и Пушечного двора еще мало. Надобно много нам железа и меди, а руды мы добываем мало, особливо медной, которой, почитай, нет совсем. Мало у нас о меди разведано. Надобно нам рудознатцев поболее из-за рубежей набрать. Немцы же нам всякие препоны чинят…
Осмотрев домницы, в этот день великий князь обедал у сына вместе с Курицыным, дьяком Посольского приказа.
К концу обеда начальник стражи молодого государя Ивана Ивановича доложил:
— От хана Ивака Шибанского вестник из Поля пригнал. Разумеет он добре по-русски. С ним конников человек десять, на дворе они остановились.
— Данила Костянтиныч, — сказал государь дворецкому, — принимать вестника буду в передней, а пока пусть подождет в караульне. Угости его и конников. После, судя по вестям, укажу тобе, где на посольском дворе отдыхать им, какой корм давать и на какое время. Идите к татарам.
Дворецкий и начальник стражи вышли, а Иван Васильевич, обратясь к Курицыну, молвил:
— Мыслю, вести сии о распрях ордынских…
Разговор перешел на слухи о смутах и развале в Большой Орде, причем дьяк заметил:
— О сем токмо слухи, прямых вестей нет даже от Данияра-царевича.
Окончив трапезу и вставая из-за стола, Иван Васильевич проговорил задумчиво:
— Может, шибанские и ногайские татары более об Орде ведают?
— Яз мыслю, государь-батюшка, — быстро сказал Иван Иванович, — хан Ивак ведает о чем-то…
— Верно, — подтвердил Курицын, — может, к безрядице-то ордынской и хан Ивак руку приложил и ныне помощи у тобя, государь ищет.
— Пошто гадать нам о сем, — усмехнувшись, прервал государь дьяка. — Сей часец вестник ханский сам все подробно расскажет. Идем в переднюю, а ты, Данилушка, приведи с нашей стражей вестника ногайского…
Ногаец, войдя в переднюю, распростерся ниц на ковре перед престолами государей, оперся на подбородок и воскликнул:
— Живите сто лет, государи — царь Руси Иван и великий кназ Иван!
— Встань, — приказал Иван Васильевич, — и повестуй.
Вестник вскочил, приложив руку ко лбу, к сердцу, поклонился и стал говорить:
— Повестует хан Ивак-Ибрагим, сын Шейбани-хана, младшего брата Батыя, из великого рода Чингиза: «Да живи сто лет, царь Руси Иван! Из всех ханов и мурз, которые кочуют в Джаицких степях от Каменного пояса до берегов Хвалынского моря, яз един наследник Сарая, юрта Батыева, шлю тобе селям, яко брат брату. Сведав о победе твоей над Ахматом и бегстве твоего и моего ворога, яз с казаками своими, шибанскими и ногайскими, погнался за ним по Дикому Полю, настиг в степях приазовских, возле устья Малого Донца. Здесь Ахмат уланов своих распустил и на зимовку становиться стал. Яз же ночью подкрался, окружил с казаками царскую Белу вежу, а на рассвете ворвался к Ахмату и своими руками заколол насмерть его спящего. Всех жен его и дочерей захватил, всю казну, животину и полон великий с собой повел: девок и женок молодых, мужиков и парубков. Помню яз о дружбе отца моего с Русью и шлю тобе радостную весть — злодей твой в могиле».
Татарин замолчал, а Иван Васильевич, переглянувшись с дьяком Курицыным, спросил:
— А как ныне в Большой Орде?
— Сыны Ахмата и братья его, — ответил вестник, — за Сарай и Цистрахан спорят…
— Добре, — остановил его государь, — дворецкий мой отведет тобя и конников твоих на постой при посольском дворе и даст вам полное угостье. Брату же моему, хану Иваку, да живет он сто лет, грамоту пошлю и подарки. И тобя пожалую. Вборзе призову, а топерь иди…
Вестник снова пал ниц, затем встал и, почтительно пятясь до дверей, вышел, сопровождаемый дворецким и стражей.
— Неспроста, государь, сие вежество и ласки татарские, — сказал Курицын.
— Ведомо, — подтвердил Иван Васильевич. — Вишь, род-то свой вспоминает от Чингиз-хана. Един, мол, наследник на Батыев стол. Орду воскресить хочет. Нам сего не надобно. Стены у Ахмата остались, пусть их делят Орду надвое. Помочь им в сем придется. Потом и хан Ивак, даст Бог, с ними заратится. Пусть…
— Значит, всем троим добра желать, — весело воскликнул Иван Иванович, — а перережут они друг друга сами? Пусть все якобы без нас под горку катится…
— Угадал ты, Иване, — усмехнувшись, молвил Иван Васильевич, — мы еще о сем подумаем, а ты пока, Федор Василич, приготовь грамоту Менглы-Гирею с уведомлением о победе нашей и о гибели Ахмата. Хитро все составь, дабы алчность была у Менглы-Гирея к захвату разбитой, но все еще богатой Орды…
Вскоре вьюги да метели под февраль полетели, но ненадолго. Как-никак, все же февраль-бокогрей — последний месяц зимы. В начале двадцатых чисел этого месяца война с Ливонией была уже в полном разгаре. Иван Иванович ожидал в своей трапезной прихода отца, жившего пока еще у него в хоромах в ожидании возвращения Софьи Фоминичны из Белоозера. Нужно было думу думать о немцах.
Молодой князь на этот раз был необычно печален, и порой губы его кривились болезненной улыбкой.
Данила Константинович, следя, как слуги накрывают на стол для трапезы, изредка взглядывал на молодого великого князя, еле заметно покачивал головой и слегка вздыхал.
— Вот-вот государь-то батюшка уйдет от нас в свои хоромы, — не сдержавшись, сказал дворецкий.
— А что, уж вести какие есть? — быстро спросил Иван Иванович.
— Да по времени так выходит, — ответил дворецкий, — еще третьеводни сказывал мне дьяк Курицын, что утре гонец должен быть из Белоозера…
В дверь постучали, и вошел дьяк Курицын. Перекрестясь на образа, он поклонился.
— Будь здрав, государь, — сказал он, — по приказу батюшки твоего…
— Гонец пригнал? — перебил Иван Иванович дьяка, протягивая ему руку.
Курицын, сев на указанное ему место, внимательно посмотрел в лицо молодого государя и все понял. В груди его дрогнуло — он любил этого доверчивого и чистого сердцем юношу, уже понимающего, замыслы мачехи…
— Гонца от государыни со дня на день ждем, — тихо произнес он, — а за ним, чаю, и сама она будет. Две сотни конников к ней давно посланы…
— У ней там стражи есть поболее того, — перебил Иван Иванович, — пошто ей еще две сотни-то? Да слуги всякие, да греки и фрязины…
— Вся казна государева с ней там, — разъяснил Курицын.
На этом речь оборвалась. Посмотрев друг на друга, княжич и дьяк поняли, о чем обоим им говорить по душе хочется совсем тайно.
— Заеду к тобе, Федор Василич, на краткое время перед обедом. С прогулки…
— Душевно рад буду, государь, — горячо промолвил Курицын.
— Хочу вот тобя спросить: а как у попов новгородских после отъятия у них земель монастырских? — помолчав, спросил Иван Иванович. — Нового-то есть что?
— Думаю много зла от сего стяжания поповского будет, — начал Курицын, — вижу…
Широко распахнув дверь, вошел Иван Васильевич. Все поднялись ему навстречу. Государя сопровождал его воевода московский князь Иван Юрьевич Патрикеев. Государь был весел, видимо, чем-то весьма доволен.
«Ишь как приезду-то мачехи радуется!» — с горькой досадой подумал Иван Иванович, но отец перебил его мысли, громко воскликнул:
— Ну и добрые же вести нам из Новагорода!
Он поцеловал сына и, размашисто перекрестясь, сел за стол завтракать.
— Садись и ты с нами, Иван Юрьич, — продолжал он радостно, — выпьем по доброму кубку за воевод и за воев наших — добре они немцев поганых бьют. Сам магистр ливонский еле-еле полона избег! На Москве у нас сему истинной цены не дадут, а для псковичей победа сия все едино, что татарское иго скинули…
Государь сказал дворецкому, чтобы подали разных заморских вин и чтобы кубки за столом пустыми не были. Потом, обратясь к Патрикееву, добавил:
— А ты, Иван Юрьич, ежели баишь, что завтракал и сыт, доведи пока молодому великому князю и Федору Василичу все, что тобе от вестников ведомо. Яз тоже послушаю еще раз, а после подумаем все вместе. Токмо кубка своего ты не забывай.
— Слушаю, государь, — почтительно кланяясь, ответил князь Патрикеев.
Зная обычай Ивана Васильевича, князь Патрикеев сначала изложил весь ход событий войны с немцами. Кратко напомнил, как при нашествии Ахмата все враги государя московского обещали хану помощь: и папа римский, и Казимир, король польский, и немцы, и Новгородцы, и даже князья русские, братья его родные. В самое трудное время, когда государь не пускал Ахмата через Оку и Угру к Москве, немцы ливонские ворвались в псковские земли, пустоша их нещадно и уводя полоны великие. По тайному требованию папы римского король Казимир стал поддерживать новгородцев и сговор их с братьями Ивана Васильевича.
— Сокрушив иго татарское, ты, государь, — продолжал князь Патрикеев, — перво-наперво немцев наказал, наместников своих новгородских — князя Шуйского да боярина Зиновьева — с особыми полками ко Пскову послал…
— А с Москвы, — добавил государь Иван Васильевич, — отрядил яз ко Пскову же двадцать тысяч конников наших московских с воеводами — князем Иваном Булгаком-Патрикеевым да князем Ярославом Стригой-Оболенским. Но о сем довольно. Топерь сказывай новые вести.
— Слушаю, государь, — продолжал князь Иван Юрьевич. — Воеводы доводят, пошло наше войско тремя путями к городам ливонским Мариенбурху, Дерпту и Валку. Лыцари же ливонские в поле и носа не кажут, в осадах сидят либо бегут. Наши хотят уж к Риге идти, дабы там немцев, латышей и чудь белоглазую зорить…
Государь нахмурил брови и снова прервал речь Патрикеева.
— А пошто сие творят? Каков у них ратный умысел? — досадливо молвил он.
— Бают, хотят больше всего зорить немцев до весенней распутицы, ибо велика она будет. Снег-то там человеку в пазуху, а ежели у кого конь с дороги свернет, то двое его с трудом выволокут.
— А где силы великого магистра? Где войско епископа дерптского?
— О сем, государь, воеводы не наказывали, а самим вестникам ведомо, что магистр и епископ дерптский отказались помочь ливонским лыцарям. У всех у них ныне великий страх пред Москвой…
— Добре, — усмехнулся Иван Васильевич и, обратясь к дьяку Курицыну, спросил: — А ты как, Федор Василич, о сем мыслишь?
— Прости, государь, — спохватился набольший воевода, — забыл тобе довести. Сказывали вестники, что воеводы мыслят меж собой просить летом у тобя еще полков, дабы всю Ливонию вторым ударом враз под Москву взять.
Иван Васильевич гневно воскликнул:
— Не своего ума дело вершить хотят! Нет у них в мыслях того, что Новгород еще змеей шипит, что Пермь и Вятка нам непокорны. Забыли, что под боком у нас Тверь, что за спиной Казань и Ногайская Орда? Нет в уме, что король польский и князь литовский Казимир против нас? Что папа рымский и короля и магистра ливонского обеими руками поддерживает…
Государь встал из-за стола и по привычке своей стал ходить вдоль покоя, что-то обдумывая. Все замолчали, но через некоторое время Курицын сказал с осторожностью:
— Право ты мыслишь, государь! Пока хватит нам и того, что самый лютый наш ворог лет двадцать с нами воевать не сможет.
— Верно сие, Федор Василич, верно! — отозвался государь. — Надобно немцев бить так, дабы не всех их испугать и не ополчились бы они на нас все разом. По прутику-то мы переломаем легко весь веник. Целый же веник за един раз сломить нам пока, может, и не под силу будет…
* * *
На другой день князь Иван Иванович не сразу решил ехать на прогулку — встреча с дьяком Курицыным волновала его, чем-то тревожила.
— А может, сего и не надобно? — громко сорвалось у него с уст.
Иван Иванович быстро оглянулся, — возле него никого не было. Он успокоился, только пальцы слегка дрожали, как и у старого государя, выдавая его волнение.
— Тяжко мне меж отцом и мачехой, — прошептал он.
Вошел дворецкий и, взглянув на Ивана Ивановича, сказал со вздохом:
— Оженил бы тя скорей государь-батюшка, не то побаить-то тобе, опричь меня, не с кем, а лаптю сапог не товарищ. Не книжен я, не все и понять могу…
Молодой великий князь ничего не ответил на это, но, вспомнив о Курицыне, сразу принял решение.
— Прикажи-ка, Данила Костянтиныч, коня мне оседлать, — молвил он. — Из стремянных пусть со мной едет Никита Растопчин.
Дьяк Курицын встретил великого князя у ворот своей усадьбы, дабы особо почтить сына своего государя. Это тронуло Ивана Ивановича. Доехав до середины двора, он спешился, передал поводья Никите и пошел рядом с дьяком к красному крыльцу.
Курицын принимал высокого гостя один в своей трапезной с великим почетом, угощая лучшими заморскими винами из подаренных ему самим Иваном Васильевичем.
— Вельми счастлив твоим доверием, — сказал дьяк молодому государю, — яз уразумел все думы и тревоги твои. Очами и ушами буду следить за греками и рымлянами твоей мачехи…
Иван Иванович невольно с опаской оглянулся.
— Не бойся, — продолжал дьяк, — слуг моих нету. Мы одни с тобой тут.
Иван Иванович смущенно улыбнулся, а Курицын, перекрестясь на образа, воскликнул:
— Богом клянусь, буду хранить тобя от зла всякого…
Иван Иванович сильно заволновался и тихо проговорил:
— Государь-батюшка за меня, а мачеха — за Василья: его на престол хочет. Батюшка ведает о зломыслии папы и короля Казимира, но верит и в свою силу. Яз же, ведая рымские обычаи, боюсь больше за отца. Она ведь рымлянка и, как супруга моего батюшки, легче иных может злодейству всякому путь открыть…
Иван Иванович оборвал свою речь, но тотчас же, склоняясь к уху дьяка, зашептал:
— Более всего, Федор Василич, следи за греками, за Траханиотами. Сии первые ее доброхоты и советчики. Они, да и прочие царевнены земляки, все за рубежи ездят и через орден святого Доминика с папой связаны, да опричь того с некоими владыками и попами новгородскими дружат.
— Таких много, — согласился дьяк Курицын. — Им хошь с бесом в болоте, токмо бы ризы в позолоте. Чую яз, что и меня они живьем сожрать хотят.
— Истинно сие, — подтвердил Иван Иванович. — Злы они на тобя, токмо руки у них коротки…
— Пока государь жив! — добавил Курицын со вздохом. — Ныне церковь не та, что при владыке Ионе. Тот за государство был, за народ. Нонешние-то владыки токмо за свои барыши стоят. Мыслю, что пакости поповские будут злее удельных.
Иван Иванович забеспокоился.
— Пора мне к обеду, — сказал он, протягивая руку Курицыну.
Тот поцеловал ее и молвил:
— Помни, государь, клятву мою! Верен яз буду батюшке твоему и тобе до самыя смерти…
Давно уж воротились в Москву из Белоозера со всеми детьми и двором своим Софья Фоминична. Началась в семье государя обычная жизнь, да и вокруг них люди безо всякого страха живут. Вообще после свержения ига татарского смирились и затаились все вороги иноземные — тишина повсюду: и в Москве, и по всей Руси до самых крайних рубежей ее, и никто на Русь нападать не смеет. Наоборот, грозный государь московский сам карает немцев без милости за их помощь Ахмату. Привозят на Москву гонцы из Ливонии от воевод государевых весть за вестью о победах над магистром ливонским.
Казалось бы все хорошо крутом, но не верит Иван Васильевич в благополучие это. Чует он, что за мнимой тишиной зло повсюду прячется. Хитросплетения разные крадутся исподтишка путями неведомыми, тайно складываются темные дела человеческие.
Весна же, светлая и ясная, победно идет своим чередом, как ей от века назначено, веселя и радуя все живое. На первое марта мелькнул теплый, солнечный день весновки Евдокеи, принеся мужику свои затеи: соху точить, борону чинить. Вскоре вот и Конон-огородник прошел и тоже крестьянам заботы прибавил, а сегодня, марта семнадцатого, и для государей московских забот прибавилось: раскрылись некоторые тайные замыслы, и снова тревоги пошли.
Великий князь Иван Иванович был в хоромах у отца за ранним завтраком, когда доклады государю делали дьяк Курицын и дьяк Далматов о делах новгородских и прочих.
— Неспокойно и в Твери, государь, — закончил доклад свой Курицын, — все вести о князе тверском, которые от доброхотов ведаю, правы. Ясно мне, что иного и быть не может. После падения Новагорода Тверь окружена со всех сторон московскими владениями. Задыхаться уж начинает она в петле московской…
— Истинно так, — одобрительно молвил государь, — уразумел сие и князь Михайла. Хватит ли у него разума покорным нам стать? Ведь токмо два пути у Твери: либо Москва, либо Краков. Мыслю, гордость и высокоумие завлекут Михайлу к измене. Что ж, пусть! Не дите малое. Худо все мои сродники уму-разуму учатся. Вот и братья мои, Андрей большой да Борис, ума не набрались, и после смерти Андрея меньшого крестоцелование забыли. Снова из-за его удела ропот подымают. Досада их точит, что мне единому свой удел он отказал по духовной-то…
— Уж они у государыни Марьи Ярославны на тобя плакались, — заметил Курицын.
— Ведаю, — усмехнулся Иван Васильевич. — Ведаю и то, что победы наши ливонские страшат короля и папу. Чую, снова ветер-то из Рыма дует.
— Из Рыма, государь, из Рыма, — подхватил дьяк Курицын. — Ныне рука папы через царевича Андрея Фомича Палеолога и к верейскому уделу тянется!
— Ведаю, — сказал Иван Васильевич.
Иван Иванович, подозревая и тут разные происки мачехи, воскликнул с раздражением:
— Не зря Андрей-то Фомич дочь свою за сына князя верейского, за Василь Михалыча, спешил выдать и государыню Софью Фоминичну к сему весьма понуждал!..
Государь вдруг нахмурился, глаза его потемнели. Это испугало всех — за последнее время был Иван Васильевич особенно суров и резок. Однако на этот раз он легко овладел собой и приказал дьяку:
— Ты, Федор Василич, пригляди за верейскими. Не сшиты ли они какими нитками с Тверью и с братьями моими единоутробными…
— Слушаю, государь, — ответил Курицын и хотел еще что-то добавить, но замялся.
Государь метнул на дьяка острый вопросительный взгляд.
— Еще не разумею всего, — начал тот нерешительно, — но мыслю, государь, что, опричь князей и бояр, некие и от «князей церкви» к сему пришиты. Токмо концов от сих нитей еще не разведал.
Иван Васильевич взглянул на другого дьяка, на Долматова, тот понял.
— Какие нити от князь Михайлы тверского к Новугороду идут, — разъяснил Василий Далматов, — и где концы их, мне от доброхотов наших ведомо. Все тверские бояре, которые в Новгород приезжают, всегда стоят у старых посадников, особливо же у Луки Федорова, у Василия Казимира и у брата его Якова Короба, да у старого тысяцкого Михайлы Берденева…
Постучав в дверь, вошел начальник стражи.
— Воеводы твои, князи Оболенский и Булгак-Патрикеев, воротились, допустить их молят.
— Веди их сюды, — сказал Иван Васильевич.
Воеводы вошли и, перекрестясь на образа, одновременно воскликнули:
— Будь здрав, государь! Прости, что к тобе прямо с похода, во всем дорожном. Спешная грамота есть, добыча и полон великий…
— Будьте здравы и вы, — приветливо прервал их государь. — Садитесь за стол. Пейте и кушайте. Добре ли дошли?
— Добре, государь! Пьем во здравие твое!
— Ну, сказывайте, — молвил Иван Васильевич, когда воеводы выпили, закусили.
— Как гонцы наши доводили тобе, государь, — начал князь Оболенский, — тремя путьми пошли мы в Ливонию: на Мариенбурх, Дерпт и Валк. Взяли мы грады Тарваст, Феллин и большой город Велиад, откуда сам магистр-то Бернгард еле успел убежать. Наместник твой псковский, князь Василь Федорыч Шуйский, гнался за ним верст пятьдесят, да не мог догнать. Вельми резвы они в беге-то. Все же обозы магистровы почти целиком в наши руки попали. Шли мы, где хотели, пустоша земли и полон беря, а немецких полков нигде не видали. Загодя от русских их гнало, яко бесов от ладана. Всяк день мы обозы тяжелые во Псков отправляли с серебром, золотом церковным, дворянским и купецким, с оловянной посудой, с пивом и вином в бочках, с сукном ипским, а псковичи даже восемь колоколов великих посымали. Коней мы и прочий скот на Русь гнали да тысячи мужиков, дворян и купцов с женами и детьми. Колокола же, государь, которые в Велиаде с церквей сняты, псковичи в дар тобе везут. У Волока Ламского мы обогнали их. На дровнях везут по одному колоколу, а в каждые дровни по шесть волов впряжено, и то еле тянут. Зажор много, мякнут дороги-то…
— Ну, а как спешная грамота? — резко задал вопрос государь. — От кого?
— Грамотка от наместника твоего новгородского, от Василия Иваныча Китая. Его крепкая стража привезла вместе с нами пятерых старых посадников новгородских, в железо окованных…
Государь переглянулся с дьяком и, оборотясь к стремянному своему, стоявшему у дверей, сказал:
— Поди-ка Саввушка, с начальником стражи моей да прикажи от моего имени взять за приставы новгородских бояр в тесное заключение, да позови дворецкого.
Саввушка вышел, а князь Булгак-Патрикеев достал весьма малый столбец, закатанный и зашитый в холст с восковой печатью наместника государева в Новгороде, и передал его дьяку Курицыну. Пока тот проверял целость упаковки тайного письма, пришел дворецкий. Увидев его государь, молвил воеводам:
— Идите с дворецким к казначею моему Дмитрию Володимирычу, уговоритесь, когда и как добычу и полон ему сдавать будете. Утре же, через час после раннего завтрака, придете ко мне вместе на малую думу.
Когда воеводы ушли вслед за дворецким, дьяк Курицын сказал Ивану Васильевичу:
— Тайная грамота сия в полной целости.
— Дай прочесть Василь Далматову, — ответил Иван Васильевич.
Дьяк Долматов, достав перочинный ножик, быстро распорол швы и, вынув из холста столбец, стал читать:
— «Великий государь, да ниспошлет тобе Бог многие лета и здравия. От доброхотов наших мне ведомо было, что Михайла тверской через бояр своих ссылается с новгородскими боярами Василием Казимиром, с братом его Яковом Коробом, с Лукой Федоровым да с Михайлой Берденевым. Вборзе же после сего порубежная наша застава уследила литовского лазутчика, который хотел назад в Литву убежать. Стрелами убили его, а на нем грамотку нашли от короля Казимира к тверскому князю. Грамотку сию, писанную по-латыньски, прилагаю. Она кратка вельми. Повели ее, государь, ранее прочесть, а после снова мою грамоту читай…»
Дьяк Долматов взял небольшой кусок пергамента с королевской печатью и передал его Курицыну.
— Читай ты, Федор Василич, — сказал он. — Яз токмо по-польски и по-литовски разумею, а латыни не ведаю…
Курицын перевел и прочел вслух:
— «Великому князю тверскому. Государь, готов тобе быть союзником против Москвы. Ссылайся со мной через ведомых тобе новгородских бояр, через которых все твои письма яз получил.
Круль Польский и великий князь Литовский Казимир».
Курицын, прочитав перевод королевской грамотки, замолчал. Молчали и оба государя и Далматов.
— Неужто из родных никому верить нельзя? — с горечью воскликнул Иван Иванович.
— Никому, сынок, — сухо ответил государь, — опричь тех слуг верных, у которых вся корысть их — токмо в службе государевой.
Обратясь к Курицыну Иван Васильевич добавил:
— Читай, что еще пишет сам-то Василь Иваныч.
— «Из письма сего, — продолжил чтение дьяк, — яз уразумел ясно, кто сии ведомые князю Михайле бояре новгородские. Оковал яз их твоим именем и шлю в железах на суд к тобе, государь. Слуга твой Василий Китай».
Иван Васильевич взглянул на дьяка Далматова и сказал:
— Ты, Василь Далматыч, днесь же препроводи злодеев новгородских на двор к боярину Товаркову и вместе с дьяком Гречновиком розыск наряди по сему делу.
— Разреши мне, государь, по другому делу тобе слово молвить, — обратился Далматов к Ивану Васильевичу. — Когда ты посылал меня с князем Михайлой Андреичем верейским и Василием Борисычем Морозовым в Белоозеро сопровождать твою княгиню с казной и двором ее, много приметил яз худого.
— Что ж ты приметил? — спросил Иван Васильевич.
— Где бы станом в селе или деревне мы ни становились со двором государыни, всюду на них, на дворских ее, особливо из чужеземцев, простой народ в горькой обиде был, и всегда одно и то же баили: «Для нас, христиан, пуще татар они — сии кровопийцы! Воздай же им Господи по делам их!»
— Скажи, Василий Далматыч, дабы о сем через людей своих боярин Товарков тайно разведал и до меня довел. Идите все с Богом!..
Оставшись с сыном с глазу на глаз, Иван Васильевич глубоко вздохнул и ласково положил ему руку на плечо.
— Видишь, Иване, — сказал он вполголоса, — как тяжко и горько государствовать.
Иван Иванович нежно взглянул на отца, но вдруг загрустил и сказал с болью:
— Неужто и мне пить от сей же горькой желчи и боли?
Государь усмехнулся.
— Пить, сынок, — дрогнувшим голосом ответил он, — захлебываться, а пить. Тобе, может, единому, поведаю потом и о душе и о сердце своем.
Иван Васильевич задумался и, вдруг улыбнувшись, сказал:
— Днесь же яз хочу баить токмо о тобе, Иване. О радостях жизни баить, о молодости и любви твоей, о сватовстве нашем к дочери Стефана, господаря молдавского, Елене. Ныне яз от него грамотку получил. Пишет он мне шуткой, что яз дома сижу, на перинах нежусь, а всех ворогов на поле бью и чужие государства крепко и навек в свои руки беру или в прах, как Орду, разоряю. Он же весь век свой на коне, с саблей в руках полки свои на ворогов водит, бьет их, а задавить до конца не может. Одних едва лишь разобьет, как другие им помогают. Пошто так? Что разумеешь ты о сем?
Иван Иванович рассмеялся.
— Стефан-то более воевода, чем государь, — весело ответил Иван Иванович. — Ты же — первей всего державный государь. Да и когда воеводой бываешь, то с государевым разумом, а не токмо с саблей.
Иван Васильевич обнял сына и поцеловал.
— Верно! — воскликнул он. — Ежели ты после меня так же деять будешь, спокоен яз за Русь нашу. Никакие вороги разорить ее не смогут…
Старый государь прошелся несколько раз вдоль покоя и спросил:
— Ну, а как показался тобе образ Еленин, что, на доске писанный, нам прислан?
— Баска она, — краснея, ответил Иван Иванович. — Вельми, видать, ласкова и желанна…
Государь похлопал сына по плечу и молвил:
— Не зря же матерь ее, Евдокия, дочь великого князя киевского, красой своей славилась. Ну, дай Бог вам совет да любовь! Топерь будем сватов засылать спокойно.
В тысяча четыреста восемьдесят втором году, вскоре после рождения у государя Ивана Васильевича сына Дмитрия, прибежал на Москву из Литвы от короля Казимира князь Федор Иванович Бельский.
Случилось это во дни самой спешной и кипучей работы Посольского приказа, когда Иван Васильевич сносился явно и тайно с могущественным королем венгерским Матвеем Корвиным, со знаменитым воеводой и великим господарем молдавским Стефаном и с ханом крымским Менглы-Гиреем, ища в них союзников против короля Казимира и против папы римского. Помимо этих дел, думал он и о Литве и о князьях верховских, православных, которые живут в верховьях Оки и ее притоков и в подданстве у Литвы со своими русскими порубежными вотчинами, а ныне, будучи Казимиром недовольны, о Москве мыслят и Руси поддаться хотят…
Обо всем этом, прежде чем беседу вести с князем Бельским, решил Иван Васильевич подумать с думой своей: сыном Иваном Ивановичем, с дьяком Курицыным и помощником его, дьяком Андреем Федоровичем Майко, да с казначеем своим, боярином Димитрием Ховриным.
Все были уж в сборе, когда торопливо вошел Федор Васильевич Курицын в сопровождении дьяка Майко, весьма толстого, но малого роста, и своего подьячего Алексея Щекина.
— Прости, государь, — низко кланяясь, сказал дьяк Курицын, — задержались мы. Некоих доброхотов наших литовских принимали. Вести их, мыслю, будут для днешней думы вельми надобны…
— Добре, добре, — ласково молвил Иван Иванович и, обратясь к дьяку Майко, шутливо сказал: — А ты, Андрей Федорыч, не ждал бы Филипова-то заговенья, топерь бы заговел, а то вздувает тобя, как опару, а лекарь мне сказывал, что дебелость для здравия — великое зло…
— Худо мне от сего, государь, — ответил дьяк. — Хочу вот пешком идти в Сергиеву обитель и пеш назад воротиться. Может, чудо тамо надо мной случится, а может, и само хождение мне дебелости сбавит…
Все рассмеялись.
— А ты после обеда не спи, — деловито посоветовал боярин Ховрин, — да за ужином ешь самую малость…
— Федор Василич, — перебил государь своего казначея, обратясь к дьяку Курицыну, — сказывай вести литовские.
— Ныне, государь, — начал Курицын, — как при Ахмате на Угре, во всех порубежных вотчинах князей литовских простой народ православный идет против униата, короля Казимира, и норовит православной Москве…
— Помню, — живо вмешался великий князь Иван Иванович, — как в боях с Ахматом у Берега много православных крестьян, черных людей и даже служилых с верховьев Оки в тыл Ахмату заходили, били отставших татар, обозы их с кормом зорили.
— Верно, верно, государь, — воскликнул дьяк, — так и ныне! Хочет простой народ под Москву, хочет от Казимира отсесть…
Обернувшись к своему помощнику Майко, Курицын молвил:
— Читай-ка, Андрей Федорыч, от каких городов литовских народ к нам тянет!
— Как доброхоты нам баили, — начал Майко, — двенадцать городов православных вотчин князей верховских по Березину-реку хотят за государей московских поддаться. Города сии суть Мценск, Одоев, Белев, Перемышль, Старый и Новый Воротынск, Старый и Новый Залидов, Опаков, Серенск, Мещевск и Козельск.
— Сии князи верховские с вотчинами, — заметил государь, — еще при родителе нашем вольны были и служили по докончаниям Литвы и нам, а более к Руси тянули, ибо все там православные: и народ и князья. Да выгодней им быть за Москвой, а не за Польшей и Литвой. Как ты о сем, Федор Василич, мыслишь?
— Выгодней им с нами, государь, — ответил дьяк Курицын, — нонешнее-то безрядье там — токмо продолжение тех прежних усобиц, которые и Казимиру мешали послать Ахмату на Угру ратную помочь.
— Истинно, — заметил молодой государь, — не зря же Ахмат на Литве зорил токмо порубежные вотчины князей православных…
Государь, как это бывало с ним, задумался. Все замолчали, но он неожиданно усмехнулся и сказал:
— Теперь всем нам ясно, как добре все нами удумано было против Ахмата. Казимир-то тогда с трех сторон горел: война за престолы для сынов своих с чехами и уграми; непрестанная драка с сеймиками польскими; в Литве же усобица с князьями православными. Не до Ахмата ему было…
Иван Васильевич опять помолчал и продолжал:
— Сие помните и далее деять тщитесь. Как воеводы на войне, лазутчиков всюду шлите, доброхотов слушайте. Помните, что с Литвой у нас нету войны, но и мира тоже нету. Василь Иваныч Китай в сем нам зело поможет. Ну, пока идите. Мы с великим князем Иван Ивановичем токмо вдвоем будем баить с князем Бельским о его делах, дабы видел он тайность сугубую и сам обо всем открытей нам сказывал. Ты же, Федор Василич, вместе с Андреем Федорычем и Димитрием Володимирычем идите к послам короля угорского, которому потом грамоту, как мы думали, составьте и утре к раннему завтраку мне принеси…
В тот же день за час до обеда боярин Димитрий Ховрин в сопровождении стремянного Саввушки привел в государев покой князя Федора Ивановича Бельского. Это был еще совсем молодой человек в нарядном польском кафтане, стройный и красивый.
Перекрестясь на иконы по-православному, он поклонился обоим государям.
— Будь здрав, великомочный государь, и повелитель, — сказал он по-русски, но слегка с польско-литовским выговором и затем, кланяясь Ивану Ивановичу, добавил:
— Будь здрав и ты, государь, великий князь московский…
— Будь здрав и ты, Федор Иваныч, — ответил старый государь. — Садись вот тут, ближе к нам. Да не осуди, что при тобе на мало время некоим срочным делом займусь.
Оборотясь к боярину Ховрину, государь спросил, подчеркивая тем самым, что у него нет тайн от князя Бельского:
— Как у нас Димитрий Володимирыч, с тайными послами короля угорского, Матвея Корвина?
— Могу тобе, государь, довести, что в дружелюбии и любви они с нами. О чем же беседы велись, не ведаю. Курицын-то баил с ними по-угорски, а Майко по-латыньски, яз тех языков не разумею…
— Ну, и добре содеял, что дошел к нам с князем Федором, — усмехнувшись, перебил боярина Иван Васильевич. — После дьяки-то сами обо всем мне доведут. Ты же поди к дворецкому, побай, как стол-то собрать, дабы гостя дорогого встретить нам по-московски, с честью великой. Опричь нам, токмо вы еще оба будете, а более никого, и слуг самое малое число…
— Слушаю, государь, — сказал Ховрин и, поклонившись, вышел, а Саввушка, высокий, широкоплечий и могучий воин, стал позади обоих государей, наложив ладонь на рукоятку кончара.
Князь Бельский с большим любопытством следил за всем, что происходило перед ним. Это было так не похоже на то, что делалось при дворе Казимира, великого князя литовского и короля польского. При Казимировом дворе было больше пышности и роскоши, но государь там был только первый среди равных и только совещался со своими вельможами. Здесь же государь — повелитель, и не говорит он, а приказывает, и не может ему быть ослушания…
Иван Васильевич на краткий миг остановил свой властный взгляд на князе Федоре, но, заметив, что тот оробел и смутился, ласково улыбнулся ему и молвил:
— Сказывай, княже, что и как на Литве у вас?
Федор Иванович заволновался и не сразу смог начать свою речь.
— Не можно, государь, — заговорил он, — жити на Литве православным. Льготы и воля во всем только латыньскому паньству. Даже заможные холопы-католики мают более льгот, чем многие православные паны. Хочет Казимир снова унию укрепить, дабы Литву крепче с Польшей связать, а в верховских землях князья, главное же холопы, — все православные и все против унии. Церкви же наши православные митрополиту московскому норовят, а князи — тобе, великому князю московскому…
Федор Иванович вспыхнул от гнева и взволнованно продолжал:
— Круль же польский со всеми верховскими князьями православными, яко со своей челядью дворовой, расправы чинит! Прошлое лето сразбойничал он — приказ дал: новые православные церкви не строить и старые не обновлять…
Иван Васильевич не сводил острого испытующего взгляда с князя Бельского, но тот, охваченный гневом и обидой, не замечал этого.
— Было горше того, государь, для гонору паньского. Князья, северские православные, сведав, цо круль в Вильне, борзо пригнали туда. Хотели видеть круля, но стражи не пустили их в крулевски палаты и перед ними так двери захлопнули, цо ногу единому пану зело повредили! Как назвать бесчестье такое?
— А кто, опричь тобя, Олельковичей и Ольшанских, к Москве тянули? — тихо спросил Иван Васильевич.
— Князи Хотетовски, Белевски, Новосильски и прочие князи православные от Черниговщины…
— Сии, — молвил государь, — и при родителе моем, великом князе Василь Василиче, к Москве тянулись.
— Истинно, государь, — горячо подхватил князь Федор Иванович, — так было!
— Ты мне все о князьях баишь, — заметил Иван Васильевич, — а как народ-то?
— О нем тобе, государь, самому ведомо, — ответил Федор Иванович, — ведь из-за смут в порубежных землях литовских круль и Ахмату войска не слал. В Вильне да в Троках в своих замках отсиживался. О сем и хану тайно писал, а Ахмат-то потом все наши земли порубежные пустошил и полоны брал…
— Значит, народ-то тогда сам из Литвы шел биться за Русь на Угре, — вмешался Иван Иванович, — а князья как?
— Князи сему препон не деяли. Сами тогда замышляли, как и ныне, под московскую руку перейти, отсесть от Казимира…
— А ныне сельские и черные люди как мыслят? — спросил Иван Васильевич.
— Холопы наши православные, елико возможно им, бегут в московскую сторону, — ответил Федор Иванович, — бают, что все помалу из Литвы на Русь перебегут…
Государь многозначительно переглянулся с сыном.
— За веру православную крепко сии стоят, — продолжал князь Бельский, — родная, бают, нам московская земля, и народ ее родной, единоверный…
Воодушевленное лицо молодого Бельского неожиданно поблекло, голос оборвался, в глазах блеснули слезы. После казни главных заговорщиков — Михайлы Олельковича и Юрия Ольшанского — казнь грозила и Бельскому, но, вовремя предупрежденный, он бежал, оставив любимую супругу свою, на другой день после свадьбы…
С великой тоской и надеждой впились глаза литовского князя в суровое лицо Ивана Васильевича. Вдруг губы его задрожали.
— Государь, — с трудом произнес он, — спаси супругу мою. Отпроси счастье мое у круля. Заключена она в замке моем…
В дверях появился боярин Ховрин. Государь встал и ласково положил руку на плечо князя Федора Ивановича.
— Беру тя, княже, к собе, — сказал он тихо, — и жалую тобе Демань и Мореву с их селами, а за супругу твою буду челом бить крулю Казимиру.
Князь Федор слегка всхлипнул и, схватив руку государя, поцеловал ее. Иван Васильевич взглянул на сына и продолжал:
— Топерь же идем, княже, к столу. Димитрий Володимирыч пришел звать нас.
— Истинно, государь, — подтвердил боярин Ховрин. — Стол собран.
Иван Васильевич заметил, как князь Бельский мгновенно овладел собой и преобразился снова в вельможного гордого пана. Это понравилось государю. Он опять переглянулся с Иваном Ивановичем, и тот понял отца.
— За обедом, княже, — сказал Иван Васильевич, — мы поговорим с тобой о делах литовских и о твоих новых вотчинах. О прочих же делах побаишь с сыном моим тайно, а после он мне все доведет.
На другой день за ранним завтраком оба государя принимали с докладом дьяка Курицына, дьяка Майко и подьячего Щекина и тут же при участии боярина Ховрина думу думать стали о грамоте королю угорскому Матвею Корвину и о послах к воеводе и господарю молдавскому Стефану, чтобы сватать дочь его Елену за великого князя Ивана Ивановича.
— Князя Федора Бельского яз взял под свою руку, — молвил Иван Васильевич. — Мыслю, сие добрый почин: за ним прочие смелей к нам переходить будут.
— Верно сие, — согласился дьяк Курицын, — токмо ведай, государь, что в епистолии, сиречь в грамоте, к нонешнему папе Сиксту еще в марте шесть тысяч девятьсот восемьдесят четвертого года князи литовские православные били челом и молили папу о милостях, об уравнении их с латынянами и о приведении их в унию с Рымом. Меж подписей под сей челобитной была и подпись князя Федора Бельского. Двурушники искони все сии князи русско-литовские…
— А пошто у вас очи да уши, — усмехнувшись молвил Иван Васильевич, — на то вы и дьяки, дабы все слышать и видеть, дабы самим обманщиков всех обмануть государству нашему на пользу. Что ж до князя Федора Бельского, то ему ныне лет двадцать семь, а то и менее. При подписании же грамоты папе было ему лет двадцать с чем-то. Не сам тогда мыслил, за чужим разумом шел.
— Верно, государь, — поддержал Ивана Васильевича боярин Ховрин, — грамоту же сию подписывали родственники короля князья Слуцкие. Они же старшие родственники князь Федора Бельского. Подписали и такие вельможи, как князь Димитрий Вяземский, Ян Ходкевич, великий гетман и маршалок князя литовского, и Якуб, главный писарь князя литовского, и прочие, да и архипастыри православные: епископ Мисаил, киево-печерский архимандрит Иван и свято-троицкий архимандрит Макарий из Вильно.
— Такие вот, — вмешался дьяк Андрей Федорович, — не токмо юного, но и старого обдурить смогут, но тем паче нам за князь Федором наблюдать надобно, дабы еще кто не смутил его…
Иван Васильевич весело усмехнулся и молвил, глядя на толстого Майко:
— Дебел-то ты дебел, а как борзо и ловко петлю закинул, всех нас охватил и к тому, что Федор Василич о двурушничестве сказывал, неприметно притянул…
Все рассмеялись, а государь продолжал:
— Ин быти по сему! Теперь же читай, Федор Василич, грамоту нашу королю угорскому Матвею Корвину, которого ты нам явил не токмо великим воеводой, а и государем вельми острого ума, ревнителем наук и художеств.
— Сие так, государь, — сказал дьяк Курицын, — и мы с Майко, составляя королю грамоту, тщились быть достойными ему собеседниками…
— Читай, — приказал Иван Васильевич.
Курицын прочел вступительную часть грамоты, где безо всякой лести, но весьма почтительно упоминается о могуществе короля венгерского и о могуществе государя московского, свергнувшего татарское иго и уничтожившего Большую Орду.
— Еще напиши тут, — перебил дьяка государь, — что в давние, дотатарские времена у Киева с Угорской землей было докончание о дружбе, к великой и взаимной их выгоде торговля велась.
— Впишу, государь, — молвил дьяк.
Далее Курицын писал от имени государя московского, что ныне необходимо как можно скорее утвердить договор, заключенный в Москве между обоими государствами, и разменяться грамотами, ибо обе державы уже договорились начать вместе войну против Польши в удобное для того время. Кроме того, русский государь требовал за свою военную помощь, чтобы король Матвей доставил ему: «художников, умеющих лить пушки и стрелять из оных»; размыслов, а также серебряников для делания больших и малых сосудов; зодчих для строения церквей, палат и крепостей…
— Впиши тут, — опять перебил государь своего дьяка: — «У нас есть серебро и медь, но мы не ведаем, как выгодней очищать руду. Услужи нам, пришли рудознатцев и умельцев по сим делам. Мы же услужим тобе дорогими товарами…»
Заслушав черновую грамоту до конца и внеся еще некоторые поправки, Иван Васильевич приказал к ужину переписать ее на пергамент.
— Помощников же собе ты, Федор Василич, уж сам избери да возьми добрую стражу и поезжай вместе с послами угорскими в столицу их. Буду к королю Матвею с большим поклоном от моего лица государева…
Позавтракав, государь продолжал свою беседу:
— Окончим с посольством в Унгарию и будем баить о посольстве в Молдавию, и о сем, Димитрий Володимирыч, ты сугубо с нами подумаешь, как великий казначей наш. Помнишь, есть у нас черный соболь, цены ему нет…
— Помню, государь, — живо отзвался Ховрин, — у него коготки все золотом кованы, обсажены новгородским крупным жемчугом…
— Добре, — остановил его Иван Васильевич, — сего соболя королю Матвею и всякое изделие ему из злата и серебра с каменьями: кубки, блюда, чарки и прочие — подбери, дабы по красоте и цене в масть были дивному соболю…
— Подберу, государь, — воскликнул Димитрий Ховрин, — подберу так все, что ахнет король от подарков твоих, а слух о них по всем землям пойдет…
— А ты, Федор Василич, — улыбаясь, заговорил снова государь, — так в руках все посольство наше держи, дабы все гладко было, а пили бы наши весьма бережно. Оно, что у трезвого на уме, у пьяного — на языке. Во всем бы собя берегли, ино ни нам, ни вам чести не будет, а токмо посрамление всей Руси. Остальное: речи и обхождение с вельможами королевскими и с самим Корвиным — на твое усмотрение. Мысли мои ты ведаешь…
Государь замолчал и, поглядев благосклонно на своего именитого боярина Михаила Андреевича Плещеева, из рода тех Плещеевых, из которых был и знаменитый митрополит московский Алексий, торжественно произнес:
— Ты же, Михайла Андреич, послужи мне в самом дорогом моему сердцу. Поедешь ты за невестой сына моего, государя великого Ивана Ивановича. Поедешь к воеводе великому и господарю молдавскому Стефану, победителю самого Махмета, султана турского! Государь сей могуч, славен и чтим во всем мире. Вера же у него и у всего народа молдавского — наша, греческая, православная, и все обычаи наши. В церквах служат и в делах государственных пишут единым с нами языком. Вороги его — круль Казимир и турки с Менглы-Гиреем. Сие уразумей. Казимира мы с ним вместе бить будем, а при мире нашем со Стефаном ни султан, ни хан вредить ему не захотят. Все сие в грамоте моей есть, а ты запомни еще: жена его, матерь невесты Елены, Евдокия, — русская княжна великая из Киева. Вишь какое сплетение во всем у меня со Стефаном: и в роде-племени, и в вере, и в государствовании.
Иван Васильевич помолчал и, обратясь к Ховрину, сказал:
— Ты же, Димитрий Володимирыч, и тут подарки готовь. Пошли господарю Стефану такое же все баское и ценное, как посылал папе рымскому, а невесте — такое же, как моей невесте, царевне посылал. Ты же, Михайла Андреич, там за государя своего, великого князя Ивана Ивановича, обручись и невесту сюда привези с почетом великим, яко государыню…
Иван Васильевич смолк и сделал знак рукой. Все вышли, а государь растроганно и радостно обнял сына и крепко прижал к груди своей. Иван Иванович дрогнул в объятиях отца, почувствовав, как горячая слеза капнула ему на шею.
Прошло недели две, как оба посольства выехали из Москвы. Дьяк Курицын с послами короля Матвея направился в Венгрию через Ливонию, от Колывани — морем до Любека, в объезд Польши, дабы не впасть в руки общего врага — короля Казимира. От Любека сушей поехал он к Нюрнбергу, а оттуда по долине Дуная к Буде, где жил тогда король Матвей. Столько же времени прошло и со дня отъезда в Молдавию боярина Михаила Андреевича Плещеева с братом Петром и со знатными провожатыми и крепкой стражей. Плещеев поехал к воеводе и господарю Стефану через Литву и Польшу, ибо король Казимир в это время не был во вражде с Молдавией.
Последние вести пришли от послов: от одного — из Колывани, от другого — из Смоленска. Государь Иван Васильевич был спокоен.
— Пока Бог хранит, — сказал он сыну, сидевшему у него за ранним завтраком, — все благополучно.
Иван Иванович ничего не ответил. Усердно пережевывая кусок горячей буженины, он думал о чем-то другом и сосредоточенно щурил глаза. Отец весело усмехнулся.
— Какая у тобя гребта? — спросил он.
Иван Иванович тоже улыбнулся и, потянувшись за другим куском буженины, шутливо ответил:
— Какая гребта? Буженины еще хочу взять.
Но, взяв кусок, он снова задумался и медленно произнес:
— Мне един фрязин из наших зодчих сказывал, что родной дядя мой, князь Михайла тверской, резчикам своим денежные чеканы заказывал, дабы новые деньги бить для торга с басурманами. Будет среди них серебряная деньга, на которой с одной стороны орел двухглавый выбит и надпись вокруг него: «Михаил, Божией милостию царь и самодержец тверской».
Иван Иванович замолчал, принимаясь за еду, а Иван Васильевич нахмурил брови.
— Сие еще деда твоего Бориса Лександрыча блазнило, — сказал он и, засмеявшись добавил: — Одно — хотеть, а другое — иметь. Да и на всякое хотение есть терпение. Михайле же не терпится, спешит, вишь…
Государь снова задумался:
— Токмо верно он мыслит, что на деньгах орла выбивать хочет. Ведает, что Тверь не мечом, а рублем сильней Москвы. Ведь по всей Волге и по всему Хвалынскому морю Тверь с басурманами торгует. Афанасий же Никитин, как ведаешь, до самого Индустана дошел…
— Мыслил яз, государь батюшка, о сем, — заметил Иван Иванович. — Сие все вяжет Тверь с Новымгородом и Ганзой.
— Верно, сынок! — воскликнул государь. — Более того! Тверь, бают, в Москву дверь. Ежели с Тверью заодно и Казимир, и папа, и фрязины с немцами будут, то, яко стена неодолима, все пути нам заколодят. Москве торговать не дадут…
— И нужных людей нам на Москву не пропустят…
— Грозно сие, сынок! Скинув Орду, станем мы ныне лицом к лицу с папой рымским и с кесарем германским. Надобно нам и у них трещин искать, друзей и ворогов уметь находить, дабы грызли друг друга до самой смерти, яко псы лютые. Пусть там разные государи друг друга разоряют, а нам надобно торговать прибыльней их всех и силой ратной всех их превзойти…
Стук в дверь перебил речь Ивана Васильевича, и в покой вошел князь Иван Юрьевич Патрикеев, набольший воевода и наместник московский, в сопровождении дьяка Майко.
— Прости, государь, — перекрестясь на образа и поклонившись государям, сказал Патрикеев, — не в обычный час и без зова…
— Садитесь, — насторожившись, промолвил Иван Васильевич. — Чую, вести-то злые…
— Злые, государь, — продолжал Патрикеев. — Круль Казимир, опалясь на тобя, что его князей литовских принимаешь под свою руку, поставил в Смоленске десять тысяч воев и в порубежных с нами градах заставы умножил…
— И что ж ты содеял? — перебил государь.
— Все пути от Смоленска конными полками прикрыл. По всем польско-литовским рубежам вестовым гоном приказы разослал дозоры усилить и в градцах в осаду сесть…
— Добре, — заметил государь, — повели всем воеводам готовыми быть к походу. С маэстро же Альберти о размещении в войске пушечников вместе подумай…
— Слушаю, государь…
— Ну, а ты, Андрей Федорыч, что сказывать будешь?
— И у меня, государь, вести злые, — проговорил дьяк. — Круль Казимир в распрях Пскова с Литвой вельми ласков был со псковичами и все по мольбе их учинил. В то же время сыновьям Ахмата — Седи-Ахмату и Муртозе приказал землю нашу, где можно, пустошить и грабить…
Дьяк на миг смолк, но Иван Васильевич нетерпеливо повел бровями и воскликнул:
— Еще что? Вижу у тобя и хуже того!
— Есть, государь, слух из Поля, что ссылается круль с Менглы-Гиреем, а крымскому князю Именеку подкуп послал, дабы склонить хана к миру с Литвой…
— Добре, — молвил государь Иван Васильевич, — перед обедом придешь ко мне, скажешь, куда и каких еще гонцов посылали за вестями и в Поле и к рубежам польским. Может, еще вести какие будут. Идите…
Когда наместник и дьяк вышли из государева покоя, Иван Иванович, взглядывая на задумавшегося отца, несколько раз хотел заговорить с ним, но не решался. Он знал, что государь не любит, когда прерывают его мысли.
— Итак, сынок, — заговорил сам Иван Васильевич, — путь к заморским странам нам пролагать надобно.
— Как же сие деять нам, — спросил Иван Иванович, — когда меж ними и нами стали Польша, Литва, немецкая Ливония, а дальше Варяжское море.
— Пожди, — перебил сына Иван Васильевич, — и Москва не в один день строилась. Токмо первые шаги ступаем. Ищем токмо за сей стеной вражьей сильных и славных государей, которым сия же стена есть помеха на путях, им нужных. У татар мы нашли собе друга, царя Менглы-Гирея, — от нас он не уйдет, а Бог даст, найдем таких же и в короле угорском и в господаре Стефане молдавском.
— Но ведь Менглы-Гирей-то уж с крулем ссылается? — возразил Иван Иванович.
— Пусть ссылается, — усмехнувшись, сказал государь. — Сие токмо жадность татарская. Хочет он двух маток сосать, да сего не будет. Вразумлю его, напомню ему братьев его да сыновей Ахмата. Да и султану турскому не по нутру будет дружба его с Казимиром…
— Верно, — подхватил Иван Иванович. — Казимир-то с рымским папой крестовый поход на Царьград готовят.
— Право мыслишь, — одобрил Иван Васильевич сына. — Ну да мы еще подумаем с тобой, Иване, когда Майко новых вестей принесет. С ним вместе подумаем.
— А сей часец, государь-батюшка, — весело сказал Иван Иванович, доставая ящик с шахматами, — давай в шахи до обеда повоюем.
— Ну давай, — смеясь, согласился государь, — поиграем в деревянные шахи. Позабавимся. Устал яз с настоящими-то царями и королями на кулачки биться.
Положив доску на стол, стали они расставлять шахматы.
— Вот ежели бы у государей были такие главные воеводы, как сей ферзь, — молвил Иван Васильевич. — Куда хочет, туда он и идти может, а где надобно, то и конем через других перескочит.
— Батюшка! — воскликнул громко Иван Иванович. — Ведь истинно ты сказываешь. Ты с королями и царями словно в шахи играешь! Ведаешь, кого куда поставить, а главное, когда сию перестановку делать надобно. Все у тобя — ни рано, ни поздно, а всегда в самый раз…
Иван Васильевич рассмеялся и, сделав ход пешим воином, примолвил шутя:
— Живые-то государи и воеводы их хуже деревянных сих шахов, ферзей, хуже руков и слонов. У всех деревянных ходы все заранее ведомы, как игрой установлено, токмо цели сих ходов угадать надобно. У живых же, хошь и цели ведомы, а для ходов никакого правила нету…
Иван Васильевич смолк, обдумывая ответный ход сына, двинувшего вперед слона.
К концу игры, разыгранной, к великой радости Ивана Ивановича, вничью, что было для него уже некоторой победой, пришел дьяк Майко.
— По приказу твоему, государь, — сказал он, кланяясь.
— Добре, добре, — приветливо обратился к нему Иван Васильевич, — а мы тут с великим князем отдохнули за шахами малость. Ну, садись, Андрей Федорыч, сказывай.
— Князь Иван Юрьевич, — начал Майко, — всяк час получает вести ямским гоном от рубежей польско-литовских. Никуда король своих войск не отпускает, а в Смоленске все десять тысяч при заставе держит. Мыслю, токмо для-ради страху нам, а ратью идти не посмеет…
— А в Крыму как? — перебил государь дьяка. — Сие важней нам всех войск Казимировых…
— От царевича Данияра вести пришли о посольстве Казимировом. Подтверждает сие и Данияр.
— Не мыслю яз, — опять прервал речь дьяка Иван Васильевич, — чтоб Менглы-Гирей весь свой разум утратил. Сам знаешь, Андрей Федорыч, султан-то и круль — вороги непримиримые из-за гроба Господня. Сие разумеет, чаю, и Менглы-Гирей. Мало ему, что Ахматовы сыновья на него, яко кошки на мышь, глядят. Мало того, что братья его кровные, царь Нурдовлат и Айдар, у меня, яко соколы в колпаках, на цепочке сидят. В любой час на него спустить могу. Опричь того, ногайские татары есть, которые с ордынцами за един будут, абы Крым разграбить…
— Истинно так, — воскликнул дьяк Майко. — Токмо, мыслю, надобно посла толкового да крепкого к хану в Крым отослать, дабы лоб-то ему продолбил и глаза открыл. Ослепли мурзы и князья Гиреевы от золота и подарков Казимировых, от жадности ум потеряли.
— Верно! — молвил государь. — Враз мысли мои ты уразумел. Днесь будь у боярина Юрия Иваныча Шестака. Мужик он крепкий. Ведаю его по делам новгородским и псковским, когда там при розысках наших приставом был.
— Сей силу московскую показать сумеет, — согласился дьяк. — Видал его и яз в делах-то…
— Так и содеешь. Подумайте оба о грамоте от меня, дабы Менглы-Гирей о присяге своей помнил и нас о своей не понуждал забыть. Мы же ему верные союзники. Пусть злей и злей земли короны польской зорит, дабы все время круль в тревоге и страхе был. Сие же пусть посол-то наш сказывает и всем князьям и мурзам, которым дары даем. Сказывает пусть, что государь московский друг хану и пользу его бережет, а забудет он присягу свою — и яз все забуду.
Марта пятнадцатого с грозной грамотой государя Ивана Васильевича скакал уж из Москвы в сопровождении крепкой стражи московской и отряда служилых татар касимовских боярин Юрий Иванович Шестак. Мая же четырнадцатого на подмогу Шестаку выехал из Москвы к Менглы-Гирею Михаил Васильевич Кутузов, дабы царь крымский немедля присягу королю Казимиру сложил и земли его — Подольскую и Киевскую — воевал нынешним летом.
Послы эти так сильно и грозно говорили с Менглы-Гиреем, что царь крымский уразумел в страхе положение свое и к осени того же года собрал все конные полки и по слову государя московского сам появился внезапно у берегов Днепра. Здесь со всей силой ударил он на державу польскую, взял приступом город Киев и зажег его с двух концов. Люди там, обезумев, метались по горящим улицам, и многие сгорели, а те, которые выбежать успели из пламени, все татарами в полон были взяты. Захватили татары и пана наместника короля воеводу Яна Ходкевича с женой и детьми. Полонили и архимандрита печерского, а чтимый по всей Руси Киево-Печерский знаменитый монастырь разорили до тла.
Этот разгром Киева и разорение еще одиннадцати польских порубежных городов делались руками татар в наказание королю Казимиру за то, что приводил он Ахмата, царя Большой Орды, со всей силой его на государя Ивана Васильевича, чтобы Русь всю погубить навсегда…
Сказывая о грозном походе этом, вестники царя Менглы-Гирея преподнесли обоим государям московским в дар святыни Софийского собора в Киеве: церковные сосуды — чашу для причастия и блюдо для просфоры, литые из чистого золота.
На другой день за ранним завтраком в присутствии Ивана Ивановича дьяк Майко докладывал великому князю Ивану Васильевичу.
— Государь, — говорил он, — на Москве много лают о Менглы-Гирее. О зле его над Киевом…
— Попы корят? — спросил дьяка великий князь Иван Иванович. — Удельные, чаю, тоже ради.
Иван Васильевич нахмурился.
— Все вороги ради сему, — молвил он, — и народ мутят, а не разумеют, что сие горько, а нужно. Надобно по державе польской ударить так, дабы Казимир, яко волк в западне, заметался. А бить-то его пока нечем, опричь как татарами…
Лицо государя омрачилось.
— Вернуть церковные сосуды храму Святой Софии не можем, дабы свидетелями Казимиру не стали, что яз татар на его наслал, — начал раздумчиво Иван Васильевич, но вдруг резко закончил: — Претерпеть надобно самые горькие отдельные обиды и горести для-ради общей пользы Руси!..
Он повелел дьяку Майко приготовиться и записать со своих слов наиглавное для грамот к Менглы-Гирею.
— О Киеве и о подарках ни единого слова не пиши, — сказал Иван Васильевич, — благодари токмо за верность нам против Казимира, за то, что присягу к королю сложил и земли его воевал. Сие первое. Другое пиши: «Государь-де московский Иван дела твои оберегает, а и впредь, Бог даст, как яз тобе на чем молвил, на том и до живота хочу стоять и добра твоего везде смотреть». Третье пиши. «Дары тобе, царю крымскому, всегда от меня будут и всем вельможам, которые служить будут мне верно». Начало ж и конец грамоты пиши, как всегда. Когда крымские-то послы обратно едут?
— Бают, весной, — ответил дьяк. — Казаков татарских много в Поле понаехало. Чуют добычу Менглы-Гирея. Награбили басурманы в Киевской и Подольской землях всего множество, ополонились без меры и числа, в Кафе полонян продавать будут. Борзого ответа Менглы-Гирею не надобно, а послов блазнит на московских харчах на слободе пожить, от царя своего подалее.
— Добре, — молвил государь, — спешить не будем, а теперь сказывай, какие вести о посольствах наших.
— Добрые вести, государь, — ответил Майко, — токмо, как ты и приказывал, вельми кратки. Курицын сказывает, король-то угорский принял его с великим почетом и тобя много чтит. Плещеев сказывает: господарь Стефан рад вельми, пиры за пирами идут. Снаряжает он любимую дочку Елену в дальний путь на Москву. Более сего ништо послы не пишут…
— Добре, — улыбнулся Иван Васильевич, — иди, не спеша готовь грамоту Менглы-Гирею, да и тоже не спеша помысли, кого и как с грамотой сей послать в Крым, дабы не слеп был и не глух, а видел бы, что за спиной у него, и слышал, что без него бают на совете у хана. Яз же Димитрию Володимирычу прикажу не жалеть подарков для-ради татарской жадности. Князя Именека пусть покупает первей всего. Умней он своего царя, и слушает его Менглы-Гирей. Послам же угостья и почета не жалей, но за стражей держи, яко ворогов. Ну, Бог с тобой, Андрей Федорыч, иди…
Когда дьяк Майко вышел, Иван Иванович воскликнул с тоской:
— Горько мне, отец! Казань мы и Большую Орду разорили, царей их покорили собе, яко данников. Улусниками нашими стали, как допрежь сего мы у них были. Токмо вот третье гнездо басурманское цело и крепко у Перекопа стоит, церкви русские православные огнем палит, христиан православных в полон берет, а мы им, татарам, земно кланяемся…
Иван Васильевич ласково обнял сына за плечи.
— О стене вражьей забыл ты, сынок! — сказал он. — Пробивать еще нам ее надобно. Бить ее надобно, пока не упадет она прахом… Для сего Крыму и турской державе кланяться будем. Токмо тем же временем и в обход стены сей рымско-немецкой пойдем, дабы Варяжское море захватить, дабы за стеной сей кораблям нашим торговать, да и оттуда ворогов рублем бить и зорить…
Государь вдруг смолк и отошел к окну.
— Да и все еще, сынок, — снова заговорил он, — Русь-то изнутри крепить надобно, силу ее ратную копить, злоумышления всякие пресекать…
— Батюшка, заботами твоими у нас уж постоянное войско есть! — воскликнул Иван Иванович. — Все рубежи ты укрепил, испоместил все новгородские земли детьми боярскими, дворянами и даже холопами опальных бояр. Что ж до порядка, то князья Патрикеевы не покладая рук уставные и судные грамоты единые для всей Руси творят…
Иван Васильевич улыбнулся.
— Молод ты еще, Иване, — сказал он с добродушной усмешкой. — Сие все, яко посольства наши на Запад, — токмо первые шаги. Нам же надобно ранее того Тверь захватить. Помнишь, яз тобе сказывал: Тверь — на Москву дверь для всех ворогов иноземных. И Рязань до конца урядить, и всякие мелкие княжества: чувашское, черемисское, вятское, пермяцкое и прочие. Все и всех надобно на службу Руси поставить, дабы вместе общих ворогов бить, вместе торговать и богатеть…
Иван Иванович долго молчал, обдумывая слова отца, но вдруг радостно улыбнулся.
— Все же как богаты наши земли, батюшка! — воскликнул он, обращаясь к Ивану Васильевичу. — Особливо те, что у нас после присоединения к Москве новгородских пятин, хотя бы вот у финских берегов, — одного железа там уйма, доброго железа для сабель и разных пушек и рушниц, нужных ныне нашему постоянному войску.
— Все сии богатства, — с грустью заметил Иван Васильевич, — надобно умело и выгодно добыть, а умельцев-то у нас мало…
Государь замолчал и задумался. Умственным взором окидывал он земли, прилегавшие к берегам заливов Варяжского моря, вспомнил Копорскую губу и Лужскую на побережье Финского залива, куда впадали многочисленные речки, текущие с торфяных болот.
Он давно знал северные земли Руси. Еще в первом своем походе, когда был на Кокшенге-реке, увидел он север. Потом многое узнал он и о добывании болотной руды в вотчинах московских государей по рассказам бояр, управителей-тиунов, и о выплавке железа своими оброчными крестьянами в малых домницах, и о ганзейских и шведских скупщиках криц. Знал он многое и о житье-бытье русских крестьян на севере, но чем больше думал он о добывании железа, тем яснее представлялись ему вся неискусность его добывания и незначительность пользы для государства от этих промыслов. Все же нравился ему север, нравился и облик и обычаи крепких и сметливых северян. Вспомнил, что как-то летом, когда задумал он построить крепость против шведской Нарвы, заплыл он на парусном карбусе в устье Луги в Ямском погосте.
По всей огромной торфяной равнине этого погоста, среди постоянной мокрети болот виднеются кое-где довольно обширные плоские возвышения, поросшие жалкими карельскими березками с толстыми наростами, наплывами на неуклюжих, корявых стволах. И только местами кое-где маячат более высокие холмы, на которых, вознося к небу свои вершины, стоят красноствольные сосны, а от их комлей, словно змеи, расползаются в разные стороны длинные крепкие корни сплетаясь в могучую сеть для поддержки лесных великанов. Около них темнеют густые заросли вереска и можжевельника; на одном из таких холмов заметил тогда Иван Васильевич посеревшую от времени тесовую крышу большой избы на подклети и со взвозом. Увидел и весь двор. На дворе разглядел высокий восьмиконечный деревянный крест, колодец с деревянным валом для веревки и черную баню, а совсем на задворках дымилась небольшая домница. Это — деревенька Боровка, или Одноизбянка, числящаяся за Ямским погостом, что в устье реки Луги, впадающей в Лужскую губу Финского залива.
С трудом добравшись до Боровки, Иван Васильевич познакомился здесь с ее обитателями, и дед Никита Васильевич Калекин рассказал ему о своем житье, о добыче руды и сдаче криц сборщикам в городе Ям.
— Всего мужиков, женок и детей у меня душ тридцать, а работников душ двадцать, — говорил старик. — Подростки собирают ягоды: морошку, бруснику, голубику и клюкву. Два зятя, кузнецы Буйлов и Савинов — мужики из большого села Никольско-Толдомского, — у меня, по обычаю нашему, по найму работают при домне на выплавке руды.
Ивану Васильевичу понравился могучий старик, который держался с большим достоинством и независимостью, говорил не спеша, сочным, выразительным языком, и государь с удовольствием продолжал с ним беседу.
— А сколь железа добываешь? — спросил он.
— Добываем руду с болот и выплавляем около ста и полста криц поковочного железа, сиречь прутов пятнадцать. Из них, мил человек, пять прутов в казну, а десять на разные издержки по рукомеслу, на снасти, на прокорм и одежу…
— А где все нужное вам покупаешь или меняешь?
— За харчами, одежой, за обувью, рукавицами и за всякой нужной нам снастью ездим к верховьям реки Луги: зимой на собаках, а летом на лодках, а оттуда спускаемся к ее устью, к городу Ям, где сдаем железные крицы государевым приемщикам по оброку либо в обмен, за деньги или на любые товары. За деньги же и за пиво продаем железные крицы скупщикам из Ганзы, которые и доставляют железо морем в Ригу и в Висби; Висби-то на острове свейском Готланде. Там у них главная контора. Так нам пятнадцать прутов на все надобности хватает, а внуки мои промышляют сверх того для нас рыбу и водяную птицу — лебедей, гусей и уток.
— А часто в Ям-то ездишь? — спросил государь.
— Да вот утре со светом на карбусах поедем.
— Довези меня к Яму-то, яз сам дороги отсюда не найду, а те, что привезли меня сюды, вряд ли лучше тобя дорогу ведают. Яз тобе хорошо заплачу.
— А сам ты откуда будешь, — спросил Калекин, — купец али кто?
В это время к деду Калекину подошел один из слуг государя и шепнул ему:
— Сам великий князь московский с тобой разговаривает.
Калекин снял шапку и, встав на колени, воскликнул:
— Будь здрав, государь! Прости, невдомек мне, с кем баю. Ведь мы тобя николи не видали. Ежели не погребуешь, зайди в избу-то, а утре вместе поедем.
— Спасибо, дед! Но ранее того хочу твою домницу оглядеть, узнать, как велики у вас крицы-то.
Старик, обернувшись к избе, зычно закричал:
— Эй, сыны мои, ну-кась, идите сюды, принесите крицу государю.
У избы заметались молодые мужики и парни. Взвалив на носилки железную плиту, два рослых, крепких мужика быстро поднесли крицу к великому князю.
— Изволь, государь, погляди! — сказал почтительно дед Калекин.
Иван Васильевич подошел к ним, снял с носилок крицу, подержал ее в руках и, кладя опять на носилки, сказал:
— Пуда три будет!
Калекин переглянулся с сыновьями и воскликнул:
— Ну и вельми же ты дородный мужик! Одарил тобя Господь силой. Пойдем топерь домницу смотреть…
— А ты, старина, когда мы в Ям приедем, своди мя к государевым сборщикам, токмо не проговорись, что яз государь московский. И парни твои пусть язык за зубами доржат.
— Пошто, государь, им язык-то распускать. К тому не приучены, — ответил дед Калекин.
В это время в дверях избы на взвозе показалась старуха и крикнула, прикрывая глаза рукой:
— Отец! Вишь, солнце-то уж где? И стол давно собран, полдничать идите…
— Сейчас придем. С дорогим гостем придем. Ты там медку получше достань, а мы еще домницу поглядим…
— А кто гость-то? — спросила бабка.
— Дорогой гость, баю. За столом узнаешь! — ответил Калекин.
Назад: Глава 17 Угра
Дальше: Глава 2 Против папы и цесаря

