ГЛАВА 19
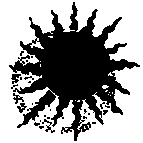
24 декабря, понедельник
Сочельник. Полночь
До Арсенального порта от площади Бастилии десять минут пешком. Мы сели на один из последних поездов метро, прибывший буквально за десять минут до полуночи. Небо к этому времени почти полностью расчистилось, и мне даже видны звездные кусочки, а облака по краям светятся оранжевым и золотистым. В воздухе чувствуется слабый запах дыма, а в призрачном мерцании только что выпавшего снега бледные шпили Нотр-Дам едва виднеются, хотя до них не так уж и далеко.
— Что мы тут делаем? — спросила я.
Ру улыбнулся и приложил палец к губам. Он нес Розетт, которая выглядела вполне бодрой и смотрела по сторонам широко раскрытыми от любопытства глазами с возбужденным интересом ребенка, которому на самом деле давно пора спать и он наслаждается каждой минутой этого запретного времени. Анук тоже, казалось, вполне стряхнула с себя сон, хотя какое-то напряжение все еще таилось в ее чертах, и это заставляло меня думать, что случившееся на площади Фальшивомонетчиков — что бы это ни было — бесследно для нее не прошло. Большая часть наших гостей осталась на Монмартре, но Мишель пошла с нами, хотя вид у нее такой, словно она боится, что кто-нибудь непременно скажет ей, что она не имеет на это никакого права. Она то и дело касается моей руки — словно случайно, или гладит Розетт по голове, а потом сразу смотрит на свои руки, как будто ожидая увидеть там какую-то метку или пятно, которые доказали бы ей, что все это происходит в действительности.
— Ты не хочешь понести Розетт?
Мишель молча качает головой. Я почти ни слова не слышала от нее с тех пор, как сказала, кто я такая. Тридцать лет тоски и страстного желания придали ее лицу вид вещи, которую слишком часто складывали и мяли; улыбка этому лицу, похоже, не знакома, и теперь она словно примеряет ее, как примеряла бы новое платье, которое, как она почти уверена, ей совершенно не подойдет.
— Тебя всегда пытаются подготовить к утрате, — говорит она. — Но никому и в голову не приходит, что человека нужно готовить и к чему-то совершенно противоположному.
Я киваю.
— Я понимаю. Ничего, мы справимся.
Она улыбается, и на этот раз улыбка у нее получается гораздо лучше, чем прежде, даже глаза на мгновение загораются.
— Я думаю, да, справимся, — говорит она и берет меня за руку. — У меня уже такое семейное ощущение…
Как раз в эту минуту и прозвучали первые залпы фейерверка. Россыпь огней, похожих на хризантемы, вспыхнула над рекой. Второй букет расцвел чуть дальше, затем еще один, и еще, изящными зелеными и золотистыми дугами и арабесками исчеркав небо над Сеной.
— Полночь. Счастливого Рождества! — сказал Ру.
Огни фейерверка расцветали в небе почти бесшумно, приглушенные расстоянием и снегом. Фейерверк продолжался еще минут десять — яркая паутина светящихся следов ракет, хвостатых комет, ярких букетов, ослепительных вспышек синего и серебряного, алого и розового огня; огни словно звали и манили друг друга — от Нотр-Дам до площади Согласия.
Мишель смотрела на фейерверк, и лицо ее было спокойно, освещенное не только вспышками праздничных огней. Розетт жестикулировала с бешеной скоростью, захлебываясь от восторга; Анук смотрела на фейерверк с неким мрачноватым наслаждением.
— Вот это самый лучший подарок! — воскликнула она под конец.
— Есть и еще один, — сказал Ру. — Пойдемте-ка со мной.
Мы спустились по бульвару Бастилии к Арсенальному порту, где стоят на якоре суда всех размеров — стоят в полной безопасности, надежно укрытые от бурной и быстрой Сены с ее вздорным характером.
— Она сказала, что никакого судна у тебя нет.
Впервые после случившегося напротив «Шоколада Роше» Анук упомянула Зози.
Ру усмехнулся.
— А ты сама посмотри.
И он указал ей в сторону моста Морлан.
Анук даже на цыпочки привстала, широко раскрыв глаза.
— И которое из них твое? — жадно спросила она.
— Неужели не можешь догадаться? — не поверил Ру.
У пирсов Арсенального порта стоят и куда более импозантные суда Порт принимает яхты до двадцати пяти метров в длину, а это суденышко было чуть ли не в два раза меньше. Даже отсюда мне было видно, какое оно старое, построенное скорее для комфортного плавания, чем для скоростного. И форма у него весьма старомодная, не такая обтекаемая, как у его соседей, и корпус сделан из настоящего дерева, а не из современного фибростекла
И все же плавучий дом Ру сразу выделялся среди всех остальных. Даже с такого расстояния видно, что есть что-то особенное и в его форме, и в ярко раскрашенном корпусе, и в цветочных горшках на корме, и в стеклянной крыше, сквозь которую можно смотреть на звезды…
— Вон то твое? — спрашивает Анук.
— Тебе нравится? Есть и еще кое-что. Подождите немного.
И Ру бегом спускается по лестнице к причалу и взбегает на пришвартованное у моста судно.
На мгновение он пропадает из виду. Затем где-то на мачте вдруг вспыхивает огонек. Это он зажег свечу. Огонек движется, и вскоре все судно оживает — свечи одна за другой зажигаются на палубе, на крыше, на поручнях, на каждом выступе от носа до кормы. Десятки — а может, и сотни — свечей сияют в вазах, в цветочных горшках, на блюдцах, в жестянках из-под консервов, и в итоге весь плавучий дом Ру начинает светиться, как именинный торт, и теперь нам уже хорошо видно то, чего мы раньше в темноте не заметили: навес, окно, вывеску на крыше…
Ру энергично машет нам, зовет подойти поближе. Анук не бежит, а держит меня за руку, и я чувствую, что она вся дрожит. И меня ничуть не удивляет, когда я замечаю, что за нами по пятам следуют Пантуфль и кто-то еще, длиннохвостый и прыгучий, без конца передразнивающий Пантуфля, но ни на шаг от него не отстающий.
— Нравится вам? — спрашивает Ру.
Пока что с нас довольно и свечей; это настоящее маленькое чудо, отраженное в спокойной воде тысячью крошечных светящихся точек. Глаза Розетт полны этими огоньками, а Анук, не выпуская моей руки, смотрит на них и протяжно, устало вздыхает.
— Как красиво! — говорит Мишель.
И это действительно прекрасно. Но мало того…
— Это ведь chocolaterie, верно?
Ну конечно! Я вижу, что это так и есть. И эта вывеска над дверью (пока пустая), и эта маленькая витрина, в которой отражаются ночные огни, свидетельствуют о том, что здесь предполагали устроить. Я даже и представить себе не могу, сколько времени понадобилось Ру, чтобы создать это маленькое чудо, — сколько времени, и труда, и любви может потребовать осуществление такой затеи…
Он смотрит на меня — руки в карманах, в глазах легкое беспокойство.
— Я купил сущую развалину, — говорит он. — Осушил, привел в порядок. Все это время только над ней и трудился. И еще почти четыре года долги выплачивал. Но я всегда думал, что, может быть, когда-нибудь…
Мои губы не дают ему закончить эту фразу. От него пахнет краской и пороховым дымом. И повсюду вокруг нас горят свечи, и Париж так и светится под снегом, и последние «неофициальные» залпы фейерверка замирают вдали где-то за площадью Бастилии, и…
— Эй, вы, двое! Подвиньтесь-ка! — говорит Анук.
И у нас обоих настолько перехватывает дыхание, что мы не в силах ей ответить.
Сейчас под мостом Морлан тихо; мы лежим, глядя, как догорают свечи. Мишель спит на одной койке, Розетт и Анук — на второй, укрытые красным плащом Анук. А Пантуфль и Бам стоят на страже и отгоняют от них дурные сны.
Над нами, в нашей собственной спальне, стеклянная крыша, и сквозь нее видно небо, широкое, апокалиптическое, усыпанное звездами. Вдали слышится шум транспорта на площади Бастилии, но его вполне можно принять за шум морского прибоя.
Я знаю, это всего лишь дешевая магия. Жанна Роше ее бы не одобрила. Но это наша магия, моя и его, и на губах у него вкус шоколада и шампанского, и мы наконец выскальзываем из одежды и сплетаемся телами под одеялом из звезд.
А над водой звучит музыка, и я почти узнаю эту мелодию.
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent…
И не слышно даже дыхания ветерка.

