ГЛАВА 13
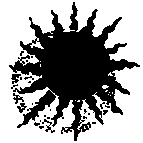
24 декабря, понедельник
Сочельник, 23 часа 5 минут
— Мы с Жанной Роше были соседками, моя комната была чуть дальше по коридору. — В голосе мадам Кайю слышны типичные «льезоны» парижанки, она точно острыми каблучками высекает слова и отдельные слоги. — Она была чуть старше меня, а на жизнь зарабатывала гаданием по картам Таро да еще тем, что помогала людям бросить курить. Я заходила к ней как-то, недели за две до того, как украли мою дочку. И она мне сказала: ты подумываешь о том, что хорошо бы ее кто-нибудь удочерил. Я назвала ее лгуньей. Но на самом деле это была чистая правда.
Мадам помолчала, потом с тем же отсутствующим взглядом продолжила:
— Это была крошечная квартирка в Нёйи-Плезанс. Полчаса до центра Парижа. У меня имелся старый «2CV», я работала официанткой в двух местных кафе, да временами нам кое-что подкидывал отец Сильвиан, который, как я к тому времени поняла, никогда и не собирался оставлять свою жену. Мне был двадцать один год, и жизнь моя была кончена. На ребенка уходило почти все, что я могла заработать. Я просто не знала, что мне делать. И ведь не то чтобы я ее не любила…
Перед моим внутренним взором мимолетно возникает та кошечка-амулет. Есть в ней нечто трогательное, в этой серебряной побрякушке с красной ленточкой. Неужели Зози и ее украла? Возможно, да. Возможно, именно так она и обманула мадам Кайю, грубоватое лицо которой сейчас так смягчилось из-за воспоминаний о трагической утрате.
— А через две недели она исчезла. Я оставила ее буквально на две минуты… Жанна Роше, должно быть, следила за мной, выжидая подходящего момента. Когда же мне пришло в голову, что искать нужно именно ее, оказалось, что ее и след простыл: она собрала свои вещи и съехала. И никаких доказательств у меня не было. Но мне всегда хотелось знать… — Она повернулась ко мне, лицо ее так и светилось. — А потом я познакомилась с вашей подругой Зози, с ее дочкой, и я поняла, поняла…
Я смотрела на эту незнакомую женщину, стоявшую передо мной. Самая обыкновенная женщина лет пятидесяти, но можно дать и больше; с тяжелыми бедрами и нарисованными бровями. Мимо такой женщины я тысячу раз могла бы пройти на улице и даже не задуматься о том, что между нами может существовать хоть какое-то родство, однако сейчас она стояла передо мной, и на лице ее была написана такая невероятная надежда, что я сразу поняла: вот она, ловушка. Но я прекрасно понимала также, что мое имя — это еще не моя душа.
Ну не могла я, просто не могла позволить ей поверить, что…
— Прошу вас, мадам… — Я улыбнулась ей. — Кто-то сыграл с вами злую шутку. Зози — не ваша дочь. Что бы она ни утверждала, она не ваша дочь. А что касается Вианн Роше…
Я не договорила. Лицо Ру было совершенно бесстрастным, но рука его нашла мою руку и крепко ее сжала. И Тьерри тоже глаз с меня не сводил. И в этот момент я поняла, что выбора у меня нет. Я знаю: человек, который не отбрасывает тени, — это и не человек вовсе, а женщина, которая отказывается от собственного имени…
— Я помню красного плюшевого слоника, — сказала я. — И одеяльце с цветочками. По-моему, оно было розовое. И медвежонка с глазами-пуговицами. И маленькую серебряную кошечку-амулет, перевязанную красной ленточкой…
Теперь мадам смотрела на меня во все глаза, и глаза эти под нарисованными бровями так и горели.
— Эти игрушки странствовали вместе со мною много лет, — продолжала я. — Слоник со временем выцвел и стал бледно-розовым. Я протерла его буквально до дыр, но выбросить не позволяла. Это были единственные мои игрушки, других у меня никогда не было, и я носила их в своем рюкзачке, усадив их туда так, чтобы головы торчали наружу и они могли бы дышать свежим воздухом…
Я снова помолчала. В тишине было слышно хриплое, мучительное дыхание мадам Кайю.
— Она учила меня читать по ладони, — продолжала я. — И гадать по картам Таро, и по чаинкам, и по рунам. У меня до сих пор хранится ее колода карт — там, наверху, в шкатулке. Я не очень-то часто ими пользуюсь, и это, разумеется, не слишком веское доказательство, но это все, что у меня от нее осталось…
Она неотрывно смотрела на меня, губы ее приоткрылись, уголки рта опустились в какой-то странной гримасе, суть которой определить было бы трудно.
— Она говорила, что ты бы все равно не стала любить меня так, как она. И так заботиться обо мне. Она говорила, что ты бы просто не знала, что со мной делать. Но она сохранила тот амулет, она хранила его вместе с картами Таро и кое-какими газетными вырезками, по-моему, перед смертью она хотела все мне рассказать, но я тогда просто не смогла бы во все это поверить — да я просто и не хотела тогда верить в это.
— Я часто пела тебе одну песенку, — сказала она вдруг. — Колыбельную. Ты ее помнишь?
Некоторое время я молчала. Мне же было всего полтора года! Как я могу помнить такие вещи?
И вдруг эта песенка отчетливо зазвучала у меня в ушах. Это была та самая колыбельная, которую мы всегда пели, чтобы отвратить от себя Ветер Перемен; та самая колыбельная, которая смягчала даже сердца Благочестивых…
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent, ma mie m'appelle,
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent, ma mie m'attend…
Я умолкла. А она вдруг раскрыла рот и завыла; это был страшный вопль, вопль отчаяния, но, как ни странно, исполненный надежды; он прорезал тишину, точно хлопанье крыльев какой-то обезумевшей птицы.
— Да, это она! Она!..
Ее голос беспомощно задрожал, и она рванулась ко мне, раскинув руки в стороны, словно тонущее дитя.
Я поймала ее — иначе она бы просто упала, — и почувствовала ее запах: запах засохших фиалок, одежды, которую слишком давно не надевали, пропахшей шариками от моли, запах зубной пасты, пудры и пыли. Это было настолько не похоже на слабый аромат сандалового дерева, всегда исходивший от моей матери, что единственное, что мне удалось в эту минуту, — это удержать подступившие к глазам слезы…
— Виан, — повторяла она. — Моя Виан.
А я обнимала ее, как обнимала и свою мать за несколько недель, за несколько дней до ее смерти, и шептала тихие слова ободрения, которых она не слышала, но которые все же немного ее успокаивали. Наконец она разрыдалась — теми протяжными бессильными рыданиями, какие вырываются из груди человека, который видел больше, чем могут вынести глаза, и перечувствовал больше, чем может выдержать сердце…
Я терпеливо ждала, пока ее рыдания немного утихнут. Через несколько минут рвущие душу стоны стихли в ее груди, сменившись какими-то тихими толчками, и ее лицо, превратившееся в руины из-за потока слез, обернулось к обступившим нас гостям. Довольно долго все стояли не шевелясь, даже не переглядываясь. Некоторые вещи воспринять почти невозможно; и эта женщина в своем неприкрытом горе заставила моих гостей смущенно шарахнуться в сторону, как это делают дети, завидев на дороге умирающего свирепого зверя.
Никто не предложил ей даже носового платка.
Никто не посмотрел ей в глаза.
Никто не промолвил ни слова.
А затем вдруг, к моему сильнейшему удивлению, поднялась мадам Люзерон и сказала своим чистым и холодным, как стекло, голосом:
— Моя дорогая бедняжка, я понимаю, что вы сейчас чувствуете.
— Понимаете?
Глаз мадам Кайю почти не было видно из-за струящихся слез.
— Видите ли, я потеряла сына. — Она положила руку на плечо мадам Кайю и подвела ее к ближайшему креслу. — Вы испытали настоящий шок. Выпейте шампанского. Мой покойный муж всегда говорил, что шампанское — это лекарство от многих недугов.
Мадам Кайю неуверенно улыбнулась.
— Вы очень добры, мадам…
— Меня зовут Элоиза. А вас?
— Мишель.
Значит, вот каково имя моей матери. Мишель.
«Ну что ж, по крайней мере, я по-прежнему могу остаться Виан», — подумала я, и меня вдруг охватил такой сильный озноб, что я буквально рухнула в кресло.
— Что с тобой? — встревожился Нико. — Ты в порядке?
Я кивнула, пытаясь улыбнуться.
— У тебя такой вид, словно и тебе бы не помешало какое-нибудь лекарственное средство, — сказал он и протянул мне бокал с коньяком.
Он так искренне тревожился обо мне и так нелепо выглядел в своем парике Генриха IV и шелковом камзоле, что я вдруг заплакала — я понимаю, это было совсем уж ни к чему, — и на какое-то время совсем позабыла о той сцене, которую Мишель прервала рассказом о своих злоключениях.
Но Тьерри об этом не забыл. Он, может, и был пьян, но все же не настолько, чтобы позабыть, зачем пришел сюда. Он пришел, чтобы застать здесь Ру. И возможно, Вианн Роше. И он ее действительно нашел, хотя она и оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. И все же она была здесь, она была заодно с его врагом…
— Значит, ты и есть Вианн Роше.
Голос его звучал ровно. А глаза казались булавочными головками, утонувшими в красном тесте.
Я кивнула.
— Я была ею. Но не я обналичивала эти чеки…
Он не дал мне договорить.
— Мне на это наплевать. Куда важнее то, что ты лгала мне. Лгала. Мне.
Он сердито тряхнул головой, но в этом его жесте было что-то жалкое, словно он никак не мог поверить, что жизнь в очередной раз не сумела подстроиться под его точные идеальные стандарты.
— Я так хотел на тебе жениться. — Теперь в его голосе явственно чувствовалась жалость к самому себе. — Я бы дал тебе дом, тебе и твоим детям. Детям другого человека. Хотя одна из этих детей… нет, вы только посмотрите на нее! — И он метнул взгляд в сторону Розетт, одетой в костюм обезьянки, и рот его сложился в уже знакомую мне букву «О». — Она же практически животное! Ползает на четвереньках. Даже говорить не умеет. Но я бы все равно о ней позаботился… я бы нашел лучших в Европе врачей, которые занимаются подобными недугами. И все ради тебя, Янна. Потому что я любил тебя.
— Любил? — переспросил Ру.
И все обернулись к нему.
Он стоял, опираясь о дверной косяк, на пороге кухни, руки в карманах, глаза горят. Он расстегнул молнию на своем костюме Санта-Клауса и под ним был весь в черном, и эти цвета так сильно напомнили мне того крысолова, нарисованного на одной из карт Таро, что у меня вдруг перехватило дыхание. И теперь он говорил — яростно, отрывисто; это Ру-то, который ненавидит толпы народа, избегает по возможности всяческих сцен и никогда, никогда не произносит речей…
— Ты ее любил? — повторил он. — Ты же совсем ее не знаешь. Ее любимое лакомство — mendiants, ее любимый цвет — красный. Ее любимый аромат — мимоза. Она умеет плавать, как рыба. Ненавидит черные туфли. Обожает море. У нее шрам на левом бедре с тех пор, как она упала с польского товарного поезда. Ей не нравится, что у нее такие курчавые волосы, хотя они просто великолепны. Она любит «Битлз» и не любит «Роллинг стоунз». Она всегда крала в ресторанах меню, потому что никогда не могла себе позволить поесть там. Она — лучшая мать из всех, кого я знал в жизни… — Он помолчал. — И твоя благотворительность ей вовсе не нужна. Что же касается Розетт… — он подхватил девочку на руки и прижал к себе так, что ее личико почти касалось его лица, — то ничего такого у нее нет. Она идеальный ребенок.
На какое-то время Тьерри, по-моему, даже растерялся. Затем до него стал доходить смысл сказанного. Лицо его потемнело, он переводил глаза с Ру на Розетт, с Розетт на Ру. Истина была бесспорна: черты лица у Розетт, возможно, не такие резкие, а волосы более светлого, рыжеватого оттенка, но у нее глаза Ру, его ироничный рот, и в эти мгновения, глядя на них, ошибиться было бы просто невозможно…
Тьерри развернулся в своих сверкающих туфлях, но это элегантное движение оказалось несколько подпорченным тем, что он бедром задел край стола. В результате бокал с шампанским полетел на пол и разбился вдребезги, осколки его, точно фальшивые бриллианты, так и зазвенели по плиткам пола. Но когда мадам Кайю попыталась их собрать…
— Эй, вот повезло! — воскликнул Нико. — А я мог бы поклясться, что слышал, как он разбился…
Мадам как-то странно на меня посмотрела.
— Просто повезло, наверное, — повторила я следом за Нико.
Ну да, как и с тем синим хрустальным блюдом из Мурано, которое я тогда уронила. Только теперь я уже больше ничего не боялась. Я просто смотрела на Розетт, сидевшую на руках у отца, и испытывала — нет, не страх, не испуг, не тревогу, а всепоглощающую гордость…
— Можешь пока что радоваться, если можешь. — Тьерри стоял уже возле двери, огромный в своем красном карнавальном костюме. — Но предупреждаю тебя заранее, за три месяца, как это обусловлено нашим договором: я твою лавочку закрываю. — Он смотрел на меня с добродушной улыбкой, в которой сквозила откровенная злоба. — Неужели ты думала, что останешься тут после всего, что произошло? Я — хозяин этого заведения, если ты на минуточку об этом забыла, и у меня свои планы, в которые ты не входишь. А пока что развлекайся своими шоколадками. К Пасхе от вашего магазина и следа не останется.
В общем-то, мне уже приходилось не раз слушать нечто подобное. Когда дверь за Тьерри с грохотом захлопнулась, я испытала не страх, а, напротив, новый, удивитально сильный прилив гордости. Самое худшее уже случилось, и мы выжили. Ветер Перемен опять одержал победу, но на этот раз у меня не возникло ощущения, что я безнадежно проиграла. Наоборот, я была невероятно счастлива, я была готова сразиться хоть с самими фуриями…
И вдруг в голову мне пришла ужасная мысль. Я резко встала и обшарила комнату глазами. Разговоры среди гостей уже возобновились, постепенно набирая и скорость, и громкость. Мадам Люзерон разливала шампанское. Нико принялся болтать с Мишель. Пополь флиртовал с мадам Пино. Из того, что долетало до моих ушей, я сделала вывод: все считают, что Тьерри был просто пьян, все его угрозы — пустая болтовня и через неделю все это будет забыто, потому что chocolaterie уже стала частью Монмартра и никак не может исчезнуть, как не может исчезнуть, скажем, «Крошка зяблик»…
Но кого-то в комнате не хватало. Куда-то пропала Зози.
И нигде не было видно Анук.

