ГЛАВА 1
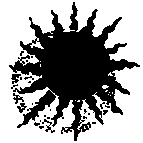
10 декабря, понедельник
А вот наконец и он, декабрьский ветер. С пронзительным воем он проносится по узким улочкам, срывая с деревьев последние листья. «Декабрь — осторожней: несчастия возможны!» — это присказка моей матери. И каждый раз, когда год близится к концу, у меня возникает ощущение, словно перевернута еще одна страница.
Еще одна страница… еще одна карта… а может быть, и другой ветер. Декабрь для нас всегда был месяцем неудач. Последний месяц года, он словно подползает к Рождеству, волоча по грязи блестящую юбку из елочной мишуры. Тупик, самое темное время, и деревья уже на три четверти облетели, и свет на улице мутно-желтый, как опаленный газетный лист, и все мои призраки выходят наружу и резвятся, точно светлячки в призрачно-сером небе…
Нас принес ветер карнавала Ветер перемен, ветер обещаний. Веселый, волшебный ветер, способный любого превратить в безумного Мартовского Зайца; этот ветер срывает цветы и шляпы, распахивает полы пальто и с каким-то лихорадочным возбуждением устремляется навстречу лету…
Анук — дитя этого ветра. Дитя лета. Ее тотем — кролик, энергичный, нетерпеливый, ясноглазый и непослушный.
Моя мать очень верила в силу тотемов. Тотем — это ведь не просто невидимый друг, он способен выдать тайную сущность человека, он, собственно, и является проявлением этой его тайной сущности, его души. Моим тотемом является кошка — так, во всяком случае, говорила моя мать, возможно имея в виду тот детский браслет с серебряным амулетом в виде кошечки. Кошки скрытны по природе. У кошек сложный, как бы раздробленный, раздвоенный характер. Кошки испуганно убегают даже при слабом дыхании ветерка. Кошки способны видеть мир духов и могут пройти по тончайшей границе меж светом и тьмой.
Стоило сильнее подуть тому ветру, и мы бежали. И разумеется, не в последнюю очередь из-за Розетт. Я сразу поняла, что у меня будет ребенок, и, словно кошка, вынашивала ее втайне, подальше от Ланскне…
Но к декабрю ветер переменился, подталкивая год все дальше во тьму от границы света. Анук я носила легко. Она, моя летняя девочка, и на свет появилась вместе с солнцем — в половине пятого утра ясным июньским утром; и в ту же секунду, стоило мне ее увидеть, я поняла: она моя и только моя.
А Розетт с самого начала была другой. Маленькая, слабенькая, капризная, она не желала есть и смотрела на меня так, словно я ей совершенно чужая. Я родила ее в пригороде Рена, и, пока мы с ней лежали в больнице, ко мне зашел местный священник, желая дать мне добрый совет, ибо был весьма удивлен тем, что я не пожелала окрестить дочь прямо в больничной палате.
Он казался человеком спокойным и доброжелательным, но был слишком похож на прочих священнослужителей с их избитыми словами утешения и таким выражением глаз, словно они отлично представляют себе ТОТ мир, но понятия не имеют об ЭТОМ. Я привычно изложила ему свою жалостливую историю. Я — вдова, меня зовут мадам Роше, я направляюсь к родственникам, где и буду теперь жить. Он явно не поверил ни одному моему слову и все посматривал на моих девочек — на Анук с подозрением, а на Розетт со все возраставшим беспокойством. Девочка, вполне возможно, не выживет, признался он честно, неужели я позволю ей умереть некрещеной?
Я поселила Анук в гостинице неподалеку, а сама медленно приходила в себя, оставаясь в больнице вместе с Розетт. Затем я отвезла Анук в крошечную деревушку Ле-Лавёз, на берегу Луары. А вскоре и сама сбежала туда от этого старого доброго священника, поскольку силенки Розетт начали таять, а его требования немедленно крестить девочку стали еще более настойчивыми.
Ибо доброта и жестокость порой убивают одинаково легко, а тот священник — его, кстати, звали Пер Леблан — уже начал собственное расследование, выясняя, есть ли у меня в данной местности родственники, кто присматривает за моей старшей дочерью, в какой школе она училась и учится, а также — какая судьба постигла моего вымышленного супруга месье Роше; и я не сомневаюсь, что эти расследования вскоре наверняка позволили бы ему узнать, каково истинное положение вещей.
Так что однажды утром я взяла Розетт и уехала на такси в Ле-Лавёз. Тамошняя дешевая гостиница изысканностью не отличалась: в нашем жалком номере стояла газовая плита и двуспальная кровать с провисшим чуть ли не до полу матрасом. Розетт по-прежнему отказывалась есть и жалобно плакала, точно мяукала, и ее голосок казался мне эхом зимнего ветра, стонавшего за стеной. Но куда хуже было то, что у нее порой секунд на пять, а то и на десять останавливалось дыхание, затем она издавала какой-то странный звук — то ли икала, то ли фыркала — и снова решала хотя бы на время вернуться в мир живых.
Мы прожили в гостинице еще двое суток. Приближался Новый год, и выпавший снег точно горьким сахаром засыпал и черные деревья, и песчаные отмели на берегах Луары. Я стала искать, куда бы переехать из этого кошмарного номера, и мне предложили квартирку над маленькой creperie, принадлежавшей пожилой паре — Полю и Фрамбуазе.
— Квартирка небольшая, но теплая, — сказала мне Фрамбуаза, маленькая женщина с яростно поблескивающими, черными, как ягоды, глазами. — Вы мне даже услугу окажете — будете заодно за блинной приглядывать. На зиму-то мы закрываемся — туристов здесь зимой совсем не бывает, — так что можете не тревожиться насчет того, что помешаете кому-то. — Она внимательно на меня посмотрела и сказала: — Эта малютка мяучит, как кошка.
Я кивнула.
— Хм… — Мне показалось, что она как-то странно принюхалась. — Вы за ней получше присматривайте.
— Что она хотела этим сказать? — спросила я у Поля, когда он чуть позже тоже заглянул в наши комнатки наверху.
Поль, кроткий немногословный старичок, посмотрел на меня, пожал плечами и сказал:
— Она немного суеверна. Впрочем, как и многие здешние старики. Не принимай это близко к сердцу, милая. Она вам всем добра желает.
Я тогда слишком устала и больше ни о чем не стала его расспрашивать. Но через несколько дней, когда мы уже устроились и Розетт даже начала понемногу есть — хотя по-прежнему вела себя беспокойно и почти не спала, — я спросила Фрамбуазу, что она тогда имела в виду.
— Говорят, такой ребенок-кошка приносит несчастье, — спокойно ответила она, прибирая и без того чистую кухню, где буквально ни пятнышка не было.
Я улыбнулась. Манерой говорить она удивительно напоминала мне Арманду, моего дорогого старого друга из Ланскне.
— Ребенок-кошка? — переспросила я.
— Ну… — Фрамбуаза пожала плечами, — вообще-то я о них только слышала, но сама никогда не видела. Зато отец часто рассказывал мне, что феи иногда ночью прокрадываются в чей-нибудь дом и подменяют настоящего младенца котенком. Такой ребенок не желает брать грудь и все время плачет. Но если кто-нибудь ребенка-кошку обидит, феи обязательно отыщут обидчика…
Она угрожающе прищурилась, потом вдруг улыбнулась и сказала:
— Но это, конечно же, просто сказки. Хотя я бы советовала вам все-таки сходить к врачу. Ваш котеночек, по-моему, не совсем здоров.
Это, пожалуй, и впрямь было так. Но у меня никогда не ладились отношения с врачами и священниками, так что я колебалась, не решаясь последовать совету доброй старушки. Пролетело еще три дня, а Розетт все мяукала, то и дело задыхалась или вообще переставала дышать, и я, преодолев себя, отправилась с ней к врачу в соседний Анже.
Врач внимательнейшим образом ее осмотрел и сказал, что необходимо сдать анализы. Но, судя по характерному крику, сказал он, кое-какие предварительные выводы можно сделать и прямо сейчас: по всей видимости, плачевное состояние девочки связано с неким генетическим пороком, в народе известным как cri-du-chat, ибо плач таких необычных младенцев более всего напоминает мяуканье. Это не смертельно, но неизлечимо и может сопровождаться некими неприятными симптомами, которые на столь ранней стадии врач предсказывать не решился.
— Значит, она действительно ребенок-кошка, — сказала Анук, похоже даже обрадовавшись тому, что Розетт не такая, как другие дети.
Она так долго была единственным ребенком в семье, что теперь, в семь лет, казалась мне иногда до странности взрослой: она по-настоящему заботилась о Розетт, уговаривала ее поесть из бутылочки, пела ей песенки и качала в кресле-качалке, которую Поль притащил нам из своего старого деревенского дома.
— Ты наш котеночек, — приговаривала она, покачивая Розетт. — Раскачаем котеночка и — прыг! — на верхушку дерева.
И крошечной Розетт, по-моему, это действительно нравилось. Во всяком случае, плакать она переставала — пусть хотя бы на время. Она даже стала чуточку прибавлять в весе. И постепенно начала спать по ночам — часа по три-четыре подряд. Анук утверждала, что на нее так хорошо действует воздух Ле-Лавёз, и ставила блюдечки с молоком и сахаром — на тот случай, если феи вдруг заглянут к нам, чтобы проверить, как дела у нашего котенка-подкидыша.
А к тому врачу из Анже я больше так и не пошла, понимая, что очередная сдача анализов Розетт не поможет. Вместо этого мы с Анук очень тщательно за ней ухаживали: купали ее в целебных травяных отварах, пели ей, массировали ее тоненькие, как палочки, ручки и ножки, втирая в них то лавандовую, то тигровую мазь, поили молоком из пипетки (пить из соски, надетой на бутылочку, она категорически отказывалась).
Анук называла ее волшебной девочкой, маленьким эльфом. Розетт и правда была хорошенькая, как эльф, — изящная, с маленькой аккуратной головкой, большими, широко расставленными глазами и остреньким подбородком.
— Она у нас даже немножко похожа на кошечку, — говорила Анук. — И Пантуфль тоже так считает. Верно, Пантуфль?
Ах да, Пантуфль. Сперва я думала, что Пантуфль, возможно, исчезнет, поскольку теперь у Анук есть крошечная сестричка, о которой нужно заботиться. Тот ветер все еще гулял над Луарой, а Святки, как и Иванов день, — время перемен, не слишком благоприятное для странников и путешественников.
Но с появлением Розетт Пантуфль, похоже, только укрепил свои позиции, если можно так выразиться. И я обнаружила, что теперь все более четко вижу, как он сидат у колыбели малышки и смотрит на нее своими черными глазами-пуговицами, пока Анук возится с нею — качает, баюкает, что-то ей рассказывает или поет песенки.
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent…
— А у бедняжки Розетт нет своего зверька, — сказала как-то Анук, когда мы с ней сидели рядышком у огня. — Может, потому она все время и плачет? Может, нам стоит попросить кого-нибудь из животных? Пусть живет у нас и заботится о Розетт, как Пантуфль — обо мне.
Я улыбнулась, но видела, что она говорит совершенно серьезно; а я давно поняла, что если не займусь какой-то проблемой, то Анук непременно попытается решить ее сама. И я пообещала ей, что мы попробуем кого-нибудь позвать. Я согласилась сыграть в эту игру. Мы с Анук так хорошо вели себя целых полгода: никаких карт, никаких чудес, никаких ритуалов. Я даже соскучилась по всему этому, и Анук, по-моему, тоже. Что плохого в такой игре?
Мы прожили в Ле-Лавёз уже около недели, и пока что все вроде бы складывалось неплохо. У нас даже кое-какие друзья там появились, а к Фрамбуазе и Полю я по-настоящему привязалась. В квартирке над creperie мы чувствовали себя вполне уютно. Из-за рождения Розетт мы, в общем, как-то пропустили подготовку к Рождеству, зато теперь приближался Новый год, а этот праздник всегда обещает что-то новое. На улице стоял мороз, но воздух был чист, а небо сияло пронзительной голубизной. Я все еще беспокоилась о Розетт, но потихоньку мы как-то приспосабливались; мы даже научились вполне сносно кормить ее с помощью пипетки.
И тут нас отыскал преподобный отец Леблан. И еще какую-то женщину с собой привел, сказав, что это няня. Однако те вопросы, которые эта «няня» задавала Анук, заставили меня заподозрить в ней социального работника Меня, к сожалению, дома не оказалось, когда они зашли: Поль повез меня на своей машине в Анже, чтобы купить для Розетт подгузники и молоко. Дома была только Анук, ну и Розетт, естественно, лежала в своей колыбельке. Священник и эта особа притащили с собой целую корзину всевозможных подарков для нас и вели себя так доброжелательно, так заинтересованно расспрашивали обо мне, утверждая, что мы давние друзья, что моя невинная доверчивая Анук рассказала им гораздо больше, чем следовало.
Она рассказала им о Ланскне-су-Танн, и о наших путешествиях по Гаронне с речными цыганами, и о нашей шоколадной лавке, и об устроенном нами празднике шоколада. А потом она принялась рассказывать о Святках, о сатурналиях, о Дубовом Короле и о Короле Падуба, и о двух великих ветрах, что делят год пополам. А когда они заинтересовались красными саше, висящими у нас над дверью, и блюдечками с хлебом-солью у порога, Анук охотно поведала им о феях и о маленьких божках, о животных-тотемах и о ритуалах с зажженными свечами. Она рассказала, как можно призвать к себе луну, как песней успокоить ветер; она и о картах Таро, и о детях-кошках им рассказала…
«Дети-кошки?»
— Ой, да! — воскликнуло мое летнее дитя. — Вот Розетт у нас — как раз такой ребеночек-кошка, и поэтому она так любит молоко. И часто всю ночь кричит, как кошка. Но это не страшно. Ей просто нужен какой-нибудь тотем. И мы все ждем, когда же он наконец появится!
Могу себе представить, что они обо всем этом подумали. Языческие тайны и ритуалы! Некрещеные дети, которых бросают у чужих людей или того хуже…
Священник спросил Анук, не хочет ли она отправиться с ним. Разумеется, он не имел на это никакого права! Он говорил, что с ним она будет в полной безопасности, что он будет ее охранять, пока длится расследование. Он, возможно, и сумел бы ее увезти, но ему помешала Фрамбуаза. Она зашла к нам, чтобы проверить, как там Розетт, и обнаружила, что у нас на кухне сидят двое незнакомых людей и Анук уже готова расплакаться, так задушевно этот священник и его спутница уговаривают ее не бояться, потому что она такая не одна, что есть сотни детей, похожих на нее, и что ее еще можно спасти, если она им доверится…
В общем, Фрамбуаза моментально все это прекратила. Язык у нее острый, и она выгнала их обоих из дома, а потом приготовила для Анук чай, а для Розетт — молоко и сидела с ними до тех пор, пока Поль не привез меня домой. А потом, естественно, рассказала мне о визите священника и той женщины.
— Эти люди просто не понимают, что нельзя совать нос в чужие дела! — презрительно сказала она, прихлебывая чай. — Все чертей под кроватью ищут. Я так им и сказала! Да вы только посмотрите на нее, сказала я им… — Она мотнула головой в сторону Анук, уже преспокойно игравшей с Пантуфлем. — Разве у нее лицо ребенка, которому грозит опасность? Или она вам напуганной кажется?
Конечно же, я была очень ей благодарна. Но в душе не сомневалась: те люди непременно вернутся. Причем на этот раз, возможно, с каким-нибудь официальным предписанием, или ордером на обыск, или требованием явиться на допрос. Я знала: Пер Леблан ни за что не сдастся! И при первой же возможности этот человек, с виду такой доброжелательный и любезный, а на самом деле очень опасный — или кто-то очень на него похожий, из той же породы людей, — будет преследовать меня даже на краю света.
— Мы завтра уезжаем, — сказала я.
Анук негодующе взвыла:
— Нет! Опять?! Ни за что!
— Мы должны уехать, Нану. Эти люди…
— Но почему всегда мы? Почему всегда обязательно виноваты мы? Почему бы этому ветру для разнообразия не унести прочь этих людей?
Я посмотрела на Розетт, спавшую в колыбели. На Фрамбуазу с ее морщинистым, старым, похожим на лежалое яблоко лицом, на Поля, который слушал нас молча, но это молчание было куда более выразительным, чем любые слова. И тут вдруг перед глазами у меня что-то промелькнуло — то ли это была просто игра света, то ли разряд статического электричества, то ли случайная искорка от очага.
— Ветер поднялся, — сказал Поль, прислушиваясь к завыванию в печной трубе. — Не удивлюсь, если разыграется метель.
Ну да, теперь и я отлично слышала, как декабрьский ветер наносит свои последние удары по стенам нашего домика. Декабрь, несчастья… Всю ночь я слушала голос ветра; он причитал, рыдал, смеялся. И Розетт всю ночь была беспокойна, капризничала, так что я до рассвета просидела у ее колыбели, время от времени задремывая, а ветер все налетал порывами, грохотал шифером на крыше, стучал оконными рамами.
В четыре часа я услышала, что в комнате Анук кто-то ходит. Розетт не спала. Я заглянула к Анук и увидела, что она сидит на полу посреди довольно криво нарисованного желтым мелом круга. У постели ее горела свеча, как и у кроватки Розетт. И в теплом желтом свете этой свечи Анук выглядела странно веселой, а щеки ее пылали от возбуждения.
— Мы все уладили, мама, — сообщила она мне, блестя глазами. — Да, мы все уладили и можем теперь спокойно остаться.
Я села с нею рядом на пол и спросила:
— Что и как вы уладили?
— Ну, я сказала этому ветру, что мы остаемся здесь. И сказала, чтобы вместо нас он взял кого-нибудь другого.
— Это совсем не так просто, Нану… — начала я, но она перебила меня, возразив:
— Да нет, это очень просто! Тем более что у нас тут и еще кое-кто появился! — Она нежно мне улыбнулась и указала куда-то в угол: — Ты его видишь?
Я нахмурилась. Там ничего не было. Ну, почти ничего. Так, неясное мерцание… промельк свечного огня на стене… какая-то тень… нечто вроде хвоста, блестящие глаза…
— Нет, я ничего там не вижу, Нану.
— Теперь его хозяйка — Розетт. Его к нам этот ветер принес.
— Ах ветер! Ясно.
Я улыбнулась. Порой фантазии Анук бывают такими заразительными, что я и сама ими увлекаюсь и начинаю видеть такие вещи, которых попросту быть не может.
Розетт протянула ручонки и замяукала
— Это обезьянка, — сказала Анук. — Его зовут Бамбузль.
Я заставила себя рассмеяться.
— Ну и выдумщица же ты! — Однако мне было не по себе. — Ты же понимаешь, Нану, что это всего лишь игра, верно?
— Нет-нет, он настоящий! — возразила с улыбкой Анук. — Посмотри, мам. Розетт его тоже видит.
Утром ветер улегся. Злой ветер — так его называют местные жители, — он порой валит деревья и сровнивает с землей амбары. О нем даже в газетах писали, а вчера вечером, в канун Нового года, из-за него случилась настоящая трагедия: он сломал на дереве большую ветку, которая рухнула прямо на проезжавшую мимо машину. Погибли двое — водитель и пассажирка. Водителем был некий священник из Рена.
«Божий промысел», — говорилось в газетной заметке.
Но мы-то с Анук знали, что это не так.
«Это просто несчастный случай, Случайность, — твердила я ей, когда она каждую ночь просыпалась в слезах в нашей маленькой квартирке на бульваре Шапель. Анук, на самом деле ничего такого не бывает. А вот случайностей в нашей жизни хватает. И это тоже всего лишь случайность».
И примерно через полгода она постепенно поверила мне. Ночные кошмары прекратились. Она снова казалась счастливой. И все же в глазах у нее что-то осталось — она словно переставала быть моим летним ребенком и очень быстро взрослела, становясь старше, умнее и… отчужденнее. А теперь и Розетт — мое зимнее дитя — с каждым днем становилась все больше на нее похожей. Маленькая Розетт, живущая в своем собственном мире и не желающая расти, как все другие дети, не желающая ни ходить, ни говорить и лишь внимательно наблюдающая за всем происходящим глазами крошечного зверька…
Сами ли мы в ответе за это? Логика говорит «нет». Но ведь и у логики пределы ограничены. А тот ветер снова здесь. И если мы не подчинимся его зову, кого он тогда заберет вместо нас?
На Монмартрском холме деревьев почти нет. Уже и это для меня хорошо. Однако декабрьский ветер по-прежнему пахнет смертью, и никаким ладаном не защититься от его темного соблазна. Декабрь — это всегда время тьмы, чистых и нечистых духов, огней, которые зажигают при умирающем свете дня, точно бросая вызов наступающей темноте. Святочные божества суровы и холодны; Персефона заточена в своем подземелье, а весна кажется далеким-далеким сном.
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent…
V'là l'bon vent, ma mie m'apelle…
А по пустынным улицам Монмартра бродят Благочестивые, пересекая любые границы и пронзительными криками выражая свое презрение к тому времени года, когда царят тепло и доброжелательность.
Назад: ЧАСТЬ ШЕСТАЯ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
Дальше: ГЛАВА 2

