ГЛАВА 3
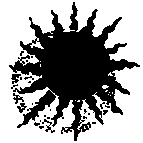
2 декабря, воскресенье
Вчера вечером зажглись рождественские огни. Теперь весь наш quartier иллюминирован, лампочки не цветные, а простые и горят над городом, точно звездный купол. На площади Тертр, где всегда размещаются наши художники, воссоздали традиционную рождественскую сценку — вертеп: улыбающийся новорожденный Христос в колыбельке среди снопов соломы, в колыбель заглядывают его мать и отец, а рядом стоят волхвы со своими дарами. Розетт от этого вертепа просто в восторге и все время просит меня снова сводить ее туда.
«Ребенок, — показывает она мне на пальцах. — Пойдем посмотрим на ребеночка». Она уже два раза ходила туда с Нико, один раз с Алисой, бесчисленное множество раз с Зози, Жаном-Луи и Пополем, ну и, разумеется, с Анук. Она, похоже, восторгается вертепом не меньше Розетт и без конца рассказывает ей историю о том, что эта малышка (в версии Анук дитя женского пола) родилась прямо в хлеву, поскольку была страшная метель, а потом, чтобы посмотреть на нее, туда пришли разные животные и три мага-мудреца, и даже одна из звезд остановилась в небесах, чтобы взглянуть на чудесную девочку…
— Потому что она была особенная, не такая, как все, — поясняет Анук, к полному восхищению Розетт. — Ни на кого не похожая, как ты, например, и очень скоро у тебя тоже день рождения…
Пришествие. Приключение. По сути, оба этих слова предполагают некое необычайное событие. Я никогда раньше не задумывалась над их сходством, никогда не отмечала христианских праздников, никогда не постилась, никогда не каялась и не исповедовалась.
Ну, почти никогда.
Но когда Анук была маленькой, мы всегда праздновали Святки: с наступлением сумерек зажигали огоньки, плели венки из падуба и омелы, пили сидр со специями, устраивали пирушки для друзей, ели горячие, с пылу с жару, каштаны, жарившиеся тут же на решетке.
А потом родилась Розетт, и все снова переменилось. Исчезли венки из омелы, свечи и ладан. Теперь мы ходим в церковь и покупаем больше подарков, чем можем себе позволить, и кладем их под елку из пластмассы, и смотрим телевизор, и беспокоимся, достаточно ли хорош будет у нас праздничный стол. Рождественские огоньки, возможно, издали и кажутся звездами, но вблизи каждому ясно, что все это ерунда и тяжелые гирлянды лампочек удерживаются над узкими улочками только с помощью проводов. И никакого волшебства… «Но разве не этого ты хотела, Вианн?» — слышу я в ушах чей-то суховатый голос, и он так похож на голос моей матери, и на голос Ру, а теперь еще немного и на голос Зози, ибо она напоминает мне ту Вианн, какой я была когда-то. И ее терпение я воспринимаю уже почти как упрек.
Но наступающий год будет не таким, как предыдущие. Тьерри любит, чтобы все было как полагается. Церковь, гусь, шоколадное полено — настоящий праздник; и мы будем праздновать не только это Рождество, но и все прочие знаменательные дни, которые уже провели вместе и которые нам еще только предстоит провести…
И разумеется, никакого волшебства. Что ж, разве это так плохо? Покой, безопасность, дружба… и любовь. Разве этого не достаточно? Разве у нас другой путь? Я выросла на народных сказках, так почему же мне так трудно поверить в счастливый конец? В то, что можно жить долго и счастливо? И почему мне до сих пор снится, что я иду следом за дудочником-крысоловом, если прекрасно знаю, куда он меня ведет?
Я велела Анук и Розетт ложиться спать, а сама бросилась вдогонку за Ру и Тьерри. Я отстала от них совсем чуть-чуть, задержавшись дома минуты на три, от силы на пять, но, едва оказавшись в уличной толпе, сразу поняла, что Ру, конечно, уже успел исчезнуть в сутолоке Монмартра. И все же, пытаясь его догнать, я поспешила в сторону Сакре-Кёр — и почти сразу среди многочисленных туристов и зевак заметила знакомый силуэт. Тьерри быстро шел к площади Далиды, решительно засунув руки в карманы и выставив вперед подбородок, точно готовый к драке петух.
Я остановилась и нырнула налево, на мощенную булыжником улочку, что ведет наверх, к площади Тертр. Но и там Ру видно не было. Исчез. Ну да, с какой, собственно, стати ему оставаться? И все же я бродила по выходящим на площадь улочкам, вся дрожа (я забыла надеть пальто), прислушиваясь к звукам ночного Монмартpa — музыке, доносившейся из клубов, расположенных у подножия Холма, смеху, шагам, детским голосам, слышавшимся у вертепа на той стороне площади, пению саксофона, на котором играл бродячий музыкант, обрывкам разговоров, приносимых ветром…
Именно его неподвижная фигура в итоге и привлекла мое внимание. Парижане похожи на косяки рыб — если остановятся хоть на мгновение, то сразу умрут. А он просто стоял без движения, почти не заметный в ярко-красных вспышках неона в витрине кафе. Молча наблюдал за толпой и словно чего-то ждал. Ждал меня…
Я бегом бросилась к нему через площадь. Крепко обхватила его руками и на секунду испугалась, что он на мое объятие не ответит. Я почувствовала, как напряглось его тело, заметила, как пролегла между бровями знакомая морщинка, — и в этом резком свете он вдруг действительно показался мне незнакомцем.
А потом он тоже обнял меня — сперва, как мне показалось, нерешительно, но через несколько мгновений с такой яростью прижал к себе, что последовавший за этим совет прозвучал в его устах по меньшей мере неуместно.
— Тебе не следовало приходить сюда, Вианн, — сказал он.
Чуть пониже его левого плеча есть такая ямка, куда очень удобно утыкаться лбом. Я отыскала это местечко и прильнула лицом к его груди. От него пахло ночью, машинным маслом, кедровым деревом, пачулями, шоколадом, дегтем и шерстью… и еще чем-то простым, но неповторимым, свойственным только ему одному, столь же неуловимым и знакомым, как постоянно возвращающийся сон.
— Я знаю, — сказала я.
И все же не могла выпустить его из объятий. Чтобы он ушел, было бы достаточно одного слова, одного предупреждения или просто нахмуренных бровей. «Я теперь с Тьерри. А ты мне только мешаешь». Предполагать какой-то иной исход из данной ситуации было просто бессмысленно и очень больно; я понимала, что все подобные идеи с самого начала обречены на провал. И все же…
— Я так рад видеть тебя, Вианн.
В его голосе, хоть и звучавшем мягко, как ни странно, слышалось некое обвинение.
Я улыбнулась.
— И я рада тебя видеть. Но почему — только теперь? Ведь столько лет прошло!
Ру пожал плечами — этот жест у него означает многое. Равнодушие, презрение, неведение, даже шутку. Но этим движением он словно вытряхнул мою голову из ее уютной «колыбели», и я сразу вновь вернулась на землю.
— А если ты узнаешь причину, это будет иметь какое-то значение?
— Возможно.
Он снова пожал плечами и сказал:
— Не вижу смысла. Ты здесь счастлива?
— Конечно.
Ведь именно этого я всегда и хотела. Свой магазин, свой дом, школу, куда ходят мои дети. И чтобы каждый день, глядя из окна, я видела одно и то же. И Тьерри…
— Просто я никогда не представлял себе тебя — здесь. Я думал, что это всего лишь вопрос времени. Что однажды ты…
— Что? Увижу суть? Сдамся? Продолжу эту бродячую жизнь — один день здесь, другой там; сегодня одно место, завтра другое: ведь именно так вы и живете, ты и прочие речные крысы?
— Уж лучше быть крысой, чем птицей в клетке.
Он явно начинает злиться, подумала я. Голос все еще звучал мягко, но южный акцент слышался в нем куда более отчетливо, как всегда бывало и раньше, если он выходил из себя. И я с изумлением поняла, что даже, пожалуй, хочу его разозлить, заставить поссориться со мной, чтобы у нас обоих не осталось ни малейшего шанса на примирение. Тяжело так думать, но, скорее всего, именно это и пришло мне в голову. И он, похоже, это почувствовал, потому что посмотрел на меня, улыбнулся и спросил:
— А что, если я скажу, что совершенно переменился?
— Да ничуть ты не переменился.
— Откуда ты знаешь?
«Ох, да знаю я, знаю». И мне так больно видеть его точно таким же, как прежде. Но я-то переменилась! Меня переменили мои дети. И я больше не могу поступать так, как хочется мне самой. А хочется мне…
— Ру, — сказала я. — Я действительно ужасно тебе рада. И это очень хорошо, что ты приехал. Но приехал ты слишком поздно. Я теперь с Тьерри. И он, правда, очень хороший человек, если узнать его поближе. И он так много сделал для Анук и Розетт…
— А ты его любишь?
— Ру, пожалуйста…
— Я спросил: ты его любишь?
— Ну конечно люблю.
И снова он пожал плечами, отчетливо выразив этим свое презрение.
— Поздравляю, Вианн, — только и сказал он на прощание.
И я его отпустила. А что мне еще было делать? Он вернется, думала я. Он должен вернуться. Но пока что он не вернулся, он не оставил ни адреса, ни номера телефона — хотя я бы очень удивилась, если бы у него был телефон. Насколько я знаю, у него даже телевизора никогда не было: он предпочитал любоваться небом и утверждал, что это зрелище ему никогда не надоедает и никогда не повторяется.
Интересно, где он живет сейчас? На каком-то судне — так он сказал Анук. Наверное, эта какая-нибудь баржа, думала я, которая, скорее всего, поднимается с грузом вверх по Сене. А может, очередной плавучий дом, если ему удалось найти что-нибудь подешевле. Наверное, что-нибудь допотопное, неповоротливое, и теперь в перерывах между временными работами он с ним возится, латает, делает его своим. Ру к таким посудинам относится с бесконечным терпением. А вот к людям…
— А Ру сегодня придет, мам? — спросила Анук после завтрака.
Она дождалась утра, чтобы задать этот вопрос. С другой стороны, Анук редко говорит не подумав; она долго размышляет, прикидывает, а уж потом говорит: неторопливо, почти торжественно и очень осторожно — так в телевизионных фильмах говорят сыщики, которым только что удалось докопаться до истины.
— Не знаю, — ответила я. — Это уж от него зависит.
— А ты бы хотела, чтобы он вернулся?
Настойчивость всегда была одной из наиболее постоянных черт моей дочери.
Я вздохнула.
— Трудно сказать.
— Почему? Ты что, больше его не любишь?
Я услышала в ее голосе вызов.
— Нет, Анук. Дело не в этом.
— А в чем же?
Я чуть не рассмеялась. В ее устах все звучит так просто, словно наши жизни — вовсе и не колода карт, где приходится взвешивать каждое решение, каждый шаг, противопоставляя его множеству иных решений, иных шагов, предпринятых случайно, необоснованно, изменяющихся буквально при каждом вздохе…
— Послушай, Нану. Я знаю, ты любишь Ру. И я тоже. Я очень его люблю. Но ты должна помнить… — Я помолчала, подыскивая подходящие слова. — Ру всегда поступает так, как хочет он сам, всегда. И он никогда подолгу не остается на одном месте. Это, может, и неплохо, потому что он один. Но нас трое, и нам нужно нечто большее.
— Если бы мы жили с Ру, он не был бы один, — разумно возразила Анук.
Я все-таки рассмеялась, хотя на душе у меня кошки скребли. Ру и Анук, как ни странно, очень похожи. Оба мыслят некими абсолютами. Оба упрямы, скрытны, обидчивы и пугающе злопамятны.
Я попыталась объяснить:
— Ему нравится жить одному. Он круглый год проводит на реке, спит под открытым небом, ему в доме попросту неуютно. Мы так жить не могли бы, Нану. Он это понимает. И ты тоже.
Она сумрачно, оценивающе на меня посмотрела.
— Тьерри его ненавидит. Я точно знаю.
Что ж, после вчерашнего вряд ли кто-то усомнился бы в этом. Шумная приветливость Тьерри была сродни приветливости кровожадного тролля; его прямо-таки переполняли откровенное презрение и ревность. Но ведь на самом деле Тьерри совсем не такой, уговаривала я себя. Его наверняка просто что-то очень расстроило, огорчило. Может, то маленькое происшествие в «Розовом доме»?
— Но Тьерри его толком и не знает, Ну.
— Тьерри никого из нас толком не знает!
И Анук снова пошла к себе, держа в каждой руке по круассану, и, судя по выражению ее лица, было ясно: продолжения этой дискуссии не миновать. А я прошла на кухню, приготовила горячий шоколад, села за стол и стала смотреть, как напиток в чашке постепенно остывает. В голове моей бродили мысли о том, каким бывает февраль в Ланскне — с цветущей мимозой по берегам Танн, с речными цыганами на длинных узких суденышках, таких многочисленных и плывущих так близко друг от друга, что по ним, кажется, можно перейти на тот берег…
И среди них один-единственный человек сидит в одиночестве, сам по себе, и смотрит на реку с крыши своего плавучего дома. Не так уж сильно он и отличается от прочих бродяг, и все же я отчего-то сразу его выделила. От некоторых людей явственно исходит свет. Вот и от него тоже. И даже теперь, когда прошло столько лет, я чувствую, что меня снова тянет к этому свету. Если бы не Анук и Розетт, я вчера пошла бы за ним. В конце концов, есть вещи и похуже нищеты. Но я должна дать своим детям нечто большее. Именно поэтому я здесь. И я не могу снова стать Вианн Роше и вернуться в Ланскне. Даже ради Ру. Даже ради себя самой.
Я так и сидела над чашкой с остывшим шоколадом, когда вошел Тьерри. Было уже девять часов, но все еще почти темно; за окнами слышался приглушенный гул транспорта и колокольный звон, доносившийся из маленькой церквушки, что на площади Тертр.
Тьерри молча сел напротив, его пальто пахло сигарным дымом и парижским туманом. Он помолчал еще с полминуты, потом протянул руку и, накрыв ею мою ладонь, сказал:
— Извини за вчерашнее.
Я взяла в руки чашку и заглянула внутрь. Надо было все-таки довести молоко до кипения: теперь на поверхности остывшего шоколада виднелась противная толстая пенка. Эх, недосмотрела, пожурила я себя.
— Янна, — тихо окликнул меня Тьерри.
Я подняла на него глаза.
— Извини, — повторил он. — Я ведь настоящий стресс испытал. Мне так хотелось все сделать как следует. Повести вас в ресторан, рассказать вам о квартире, о том, что мне удалось договориться и венчание состоится в той же церкви, где венчались мои родители…
— Что? — растерянно переспросила я.
Он стиснул мои пальцы.
— В церкви Нотр-Дам-дез-Апотр. Через семь недель. Там произошли кое-какие сокращения, но я знаком с тамошним настоятелем — я не так давно выполнял для него одну работу…
— О чем ты говоришь? — сказала я. — Ты перепугал моих детей, нагрубил моему другу, ушел, не сказав ни слова, и теперь надеешься, что я с восторгом буду выслушивать твои рассказы о квартирах и свадебных приготовлениях?
Тьерри печально улыбнулся и тут же извинился:
— Ты прости меня, я вовсе не хотел смеяться, но… ты ведь до сих пор так и не привыкла пользоваться своим мобильником, верно?
— О чем ты? — не поняла я.
— А ты включи телефон и увидишь.
Я включила и обнаружила там очередное послание от Тьерри, отправленное вчера в половине девятого вечера.
«Люблю тебя до отчаяния. И это единственное, что меня извиняет.Увидимся завтра в 9.Тьерри».
— Угу, — буркнула я.
Он взял меня за руку.
— Мне действительно очень жаль, что вчера так получилось. Этот твой друг…
— Ру, — сказала я.
Он кивнул.
— Я понимаю, это, должно быть, звучит нелепо, но когда я увидел, как он разговаривает с тобой и Анни — словно знает тебя тысячу лет! — я сразу подумал о том, что очень мало о тебе знаю. Я ничего не знаю о твоих бывших знакомых, о тех мужчинах, которых ты любила…
Я посмотрела на него с некоторым удивлением. Тьерри всегда проявлял полнейшее равнодушие ко всему, что касалось моей прошлой жизни. И как раз это мне всегда в нем нравилось. Полное отсутствие любопытства.
— Он влюблен в тебя. Даже я это заметил.
Я вздохнула. Вот так всегда, всегда все кончается именно этим — вопросами, расспросами, вроде бы доброжелательными, но круто замешенными на подозрительности.
Откуда вы? Куда направляетесь? Вы в гости к родственникам приехали?
Мы с Тьерри давно уже заключили договор, думала я. Я даже не упоминаю о его разводе; он не ведет разговоров о моем прошлом. И этот договор всегда соблюдался — по крайней мере, до вчерашнего вечера.
«Что ж, Ру, желаю тебе приятно провести время», — с горечью подумала я. С другой стороны, такой уж он есть. И голос его сейчас звучит у меня в ушах, точно голос того ветра. «Не обманывай себя, Вианн. Ты не сможешь окончательно здесь поселиться. Ты считаешь, что твой маленький домик — самое безопасное место на свете. Но я-то знаю лучше, как тот волк из сказки о трех поросятах».
Я встала и пошла да кухню, чтобы заново приготовить шоколад. Тьерри последовал за мной; среди маленьких столиков и стульчиков, расставленных Зози, он в своем огромном пальто казался особенно неуклюжим.
— Ты хочешь узнать о Ру? — спросила я, растирая шоколад и ссыпая его в кастрюльку. — Ну что ж. Мы познакомились, когда я жила на юге. Какое-то время я держала шоколадную лавку в одной деревушке на берегу Гаронны. А он жил на речном суденышке и плавал из одного города в другой, выполняя всякую временную работу. Плотничал, крыл крыши, собирал фрукты. Он и у меня кое-что подремонтировал и переделал. А потом мы с ним больше четырех лет не виделись. Ну как, хватит с тебя?
Он выглядел смущенным.
— Извини, Янна. Я, наверное, просто смешон, но я, честное слово, не собирался тебя допрашивать. Обещаю, больше это никогда не повторится.
— Вот уж не думала, что ты можешь меня к кому-то приревновать, — заметила я, добавляя в горячий шоколад ложку ванили и щепотку тертого мускатного ореха.
— Я вовсе не такой уж ревнивец, — сказал Тьерри. — И чтобы тебе это доказать… — Он взял меня руками за плечи и повернул к себе, заставляя смотреть ему прямо в глаза. — Послушай, Янна. Он твой друг. И явно нуждается в деньгах. А если учесть, что я действительно хотел бы закончить ремонт квартиры к Рождеству — ты же сама знаешь, как трудно заполучить хороших рабочих в такое время года, — я и решил предложить ему работу.
Я так и уставилась на него.
— И предложил?
Он улыбнулся.
— Можешь считать это епитимьей. Во всяком случае, я решил именно так доказать тебе, что тот ревнивец, с которым ты случайно познакомилась вчера, это совсем не я. Да, вот еще кое-что… — Он сунул руку в карман пальто. — Я тут принес тебе маленький подарок. Хотел преподнести это перед свадьбой, но…
«Маленькие подарки» Тьерри всегда слишком щедры и роскошны. Сразу четыре дюжины роз, ювелирные украшения с Бонд-стрит, шарфы от «Гермеса». Пожалуй, чересчур традиционно, но таков уж Тьерри. Был и остается всегда абсолютно предсказуемым.
— И что же это?
Он протянул мне тоненький пакетик, чуть толще обычного конверта с письмом. Я вскрыла его и обнаружила там кожаный дорожный кошелек, а в нем четыре билета первого класса до Нью-Йорка на 28 декабря.
Я молча смотрела на билеты.
— Тебе должно понравиться, — сказал Тьерри. — По-моему, только там и стоит праздновать Новый год. Я заказал номер в отличном отеле — девочки будут в восторге… снег… музыка… фейерверки… — От избытка чувств он обнял меня и прижал к себе. — Ах, Янна, я просто дождаться не могу того дня, когда покажу тебе Нью-Йорк!..
Вообще-то я там и раньше бывала. Там умерла моя мать — на шумной деловой улице, напротив итальянского магазина деликатесов, в День независимости. В июле там бывает жарко и солнечно. А в декабре будет холодно и мрачно. В декабре в Нью-Йорке люди часто умирают от холода.
— Но у меня даже паспорта нет, — медленно проговорила я. — Он, конечно, был, но теперь…
— Просрочен? Ничего, я обо всем позабочусь.
у, на самом-то деле паспорт не просто просрочен. Он выдан на другое имя — на имя Вианн Роше. И как теперь мне это ему объяснить? Как сказать, что я вовсе не та женщина, которую он любит?
Но ведь теперь этого не скроешь, верно? Да и вчерашняя сцена доказывает, что Тьерри вовсе не так уж и предсказуем. Обман похож на агрессивный сорняк, с которым нужно бороться с самого начала, иначе он сумеет повсюду просунуть свои корешки-щупальца и будет все разрушать и душить, пока не останется ничего, кроме сплошного клубка лжи…
Тьерри стоял очень близко, его голубые глаза сияли — то ли от радости, то ли от возбуждения, то ли от чего-то еще. И пахло от него чем-то неуловимо успокаивающим, как от скошенной травы, или от шкафа со старыми книгами, или от соснового ствола в потеках смолы, или от разрезанной буханки хлеба. Он подошел ко мне еще ближе, и руки его уже обнимали меня, и голова моя уже лежала у него на плече (но где же у него та маленькая впадинка, думала я, созданная для меня одной?), и меня вдруг охватило ощущение чего-то удивительно знакомого и привычного, ощущение полной безопасности — и все же в душе я испытывала странное напряжение. Мне отчего-то казалось, что я вот-вот коснусь оголенного электрического провода…
Он нашел мои губы. И снова этот разряд. Точно между нами возникает статическое электричество — и не поймешь, приятно это или больно. И я вдруг поймала себя на том, что думаю о Ру. «Черт возьми! Только не сейчас!» Последовал долгий поцелуй. Я отстранилась.
— Послушай, Тьерри. Мне необходимо объяснить…
Он посмотрел на меня.
— Что объяснить?
— У меня в паспорте указано имя… мне придется назвать его при регистрации… — Я перевела дыхание и договорила: — Ведь на самом деле у меня совсем другое имя, не то, каким я пользуюсь сейчас. В общем, это долгая история. Мне следовало, конечно, все тебе раньше рассказать, но…
Тьерри прервал меня.
— Это не имеет значения. И не надо ничего объяснять. У всех у нас есть за душой то, о чем мы бы предпочли никогда не рассказывать. Какое мне дело до того, что ты сменила имя? Мне важно, кто ты есть, а не то, как тебя зовут или звали — Франсина, или Мари-Клод, или даже, не приведи господи, Кюнегонда.
Я невольно улыбнулась.
— Значит, тебе это не важно?
Он помотал головой.
— Я же обещал, что больше никогда не буду тебя допрашивать. Прошлое есть прошлое. И мне о твоем прошлом знать необязательно. Если только ты не хочешь сообщить, что раньше была мужчиной или еще что-нибудь в этом роде…
Я рассмеялась:
— На этот счет можешь не беспокоиться.
— А я могу это проверить. Так, на всякий случай.
Руки его скользнули по моей спине вниз, а поцелуи стали крепче, требовательнее. Впрочем, Тьерри никогда ничего не требует. И эта его старомодная куртуазность всегда мне нравилась, но сегодня все было немного по-другому — я чувствовала его давно сдерживаемую страсть, его нетерпение, его стремление получить больше, чем я до сих пор ему позволяла. На мгновение мне показалось, что я сейчас утону в волнах этой страсти; его руки скользнули мне на талию, на грудь… Он как-то по-детски жадно целовал меня в губы, в лицо, словно пытаясь застолбить за собой как можно больше моей территории, и все время шептал:
— Я так люблю тебя, Янна, я так хочу тебя…
Я со смехом вырвалась, чтобы глотнуть воздуха.
— Не здесь. Уже больше половины десятого…
Он смешно зарычал и действительно стал похож на медведя.
— Ты думаешь, я собираюсь ждать целых семь недель?
Теперь и руки его словно превратились в медвежьи лапы, так крепко он стиснул меня ими, и я почувствовала мускусный запах его пота, запах сигар и табачного дыма и впервые за всю нашу с ним долгую дружбу вдруг представила себе, как мы занимаемся любовью — обнаженные, потные, на смятых простынях. И при одной этой мысли меня охватило такое изумление и такое отвращение, что…
Я уперлась руками ему в грудь и сказала:
— Тьерри, пожалуйста, не надо…
Он лишь по-медвежьи оскалился в ответ.
— Тьерри, Зози придет буквально через минуту…
— Так давай поднимемся наверх, чтобы она нас тут не застала.
Мне не хватало воздуха, я задыхалась. От него уже вовсю разило потом, и этот противный запах смешивался с запахом холодного кофе, влажной шерстяной материи и выпитого им вчера пива. Его привычного, успокаивающего запаха как не бывало; теперь от него пахло так, что мне мерещились переполненные пивные бары, узкие темные переулки, пьяные незнакомцы, с которыми ночью лучше не встречаться. Руки Тьерри, тяжелые, как камень, жадные, ищущие, были покрыты старческими веснушками, на фалангах пальцев торчали пучки волос.
Я обнаружила, что снова думаю о Ру, о его руках, ловких, как у вора-карманника, с тонкими пальцами и черной полоской машинного масла под ногтями…
— Ну же, Янна, пошли!
Он подталкивал меня к лестнице. Его глаза горели от нетерпения. Мне вдруг захотелось воспротивиться, но было уже слишком поздно. Я сделала свой выбор. Теперь возврата нет и быть не может. И я последовала за Тьерри…
Электрическая лампочка лопнула с таким звуком, словно взорвали шутиху.
На нас так и посыпались брызги стекла.
Сверху доносились какие-то звуки. Явно проснулась Розетт. Я вдруг испытала такое облегчение, что меня пробрал озноб.
Тьерри выругался.
— Мне надо посмотреть, как там Розетт, — сказала я.
Он как-то странно то ли хмыкнул, то ли усмехнулся — пожалуй, это все-таки был не смех. Последний поцелуй — но было уже ясно, что момент упущен. Краешком глаза я сумела заметить, как в темном углу сверкнуло что-то яркое — возможно, просто солнечный зайчик…
— Мне надо посмотреть, как там Розетт, Тьерри, — повторила я.
— Я люблю тебя, — сказал он.
«Я знаю, что любишь».
Было уже десять часов, и Тьерри только что ушел, когда в магазин ввалилась Зози, вся закутанная, в пальто, в высоких пурпурных сапогах на платформе и с огромной картонной коробкой в руках. Коробка с виду была тяжелой, и Зози даже раскраснелась немного. Она осторожно поставила ее на пол и сказала:
— Извини, что опоздала. Но эта штука столько весит!
— А что это? — спросила я.
Зози усмехнулась. Потом вдруг подошла к витрине и вытащила оттуда свои красные туфли, красовавшиеся там последние две недели.
— Я решила, что пора сменить декорацию. Ты не против? Собственно, и не предполагалось, что тот вариант витрины так и останется навсегда, и потом, я, честно говоря, соскучилась по своим туфлям.
Я улыбнулась:
— Еще бы, я понимаю.
— В общем, эту штуковину я отыскала на блошином рынке. — Она ткнула пальцем в коробку. — У меня есть одна мысль, и мне хотелось бы попытаться воплотить ее в жизнь.
Я молча переводила глаза с коробки на Зози и обратно. Голова у меня все еще шла кругом после утреннего визита Тьерри, внезапного появления Ру и тех осложнений, которые все это наверняка вызовет, и я чуть не расплакалась, так тронула меня неожиданная доброта этого простого жеста со стороны Зози.
— Тебе не стоило так затруднять себя, Зози.
— Глупости какие! Мне даже приятно. — Она внимательно на меня посмотрела. — Что-то случилось?
— Ах, это все Тьерри! — Я попыталась улыбнуться. — Он в последнее время ведет себя как-то странно.
Она пожала плечами.
— Ничего удивительного. У тебя же все идет хорошо. Торговля, можно сказать, процветает. Наконец-то и тебе улыбнулась удача.
Я нахмурилась и спросила:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, — терпеливо объяснила Зози, — что Тьерри по-прежнему жаждет быть для тебя Санта-Клаусом, Принцем Очарование и Добрым Королем Венцеславом — все в одном флаконе. Все это было довольно мило, пока ты сражалась с жизнью: он угощал тебя обедами, одевал тебя, осыпал подарками, но теперь ты стала совсем другой. Тебя больше не нужно спасать. У него отняли любимую игрушку, его куколку Золушку, и вместо нее перед ним оказалась настоящая, живая молодая женщина, и он попросту не знает, как себя с ней вести.
— Неправда, Тьерри не такой, — возразила я.
— Да неужели?
— Ну… — Я улыбнулась. — Может, ты отчасти и права…
Она засмеялась, а потом и я вместе с нею, хотя душа моя была охвачена странным чувством. Зози, разумеется, весьма наблюдательна. Но почему же я сама до сих пор всего этого не замечала?
А она между тем открыла свою коробку и предложила:
— Может быть, тебе сегодня немного отдохнуть? Приляг. Поиграй с Розетт. И ни о чем не беспокойся. А если он придет, я тебя позову.
Это меня удивило.
— Если кто придет? — спросила я.
— Ой, ну, Вианн…
— Не называй меня так!
Она усмехнулась.
— Разумеется, я говорю о Ру. А кого, по-твоему, я еще могла иметь в виду? Папу Римского?
Я тоже невольно усмехнулась.
— Нет, сегодня он не придет.
— И почему ж ты так в этом уверена?
И я рассказала ей о том, что Тьерри сказал насчет своей квартиры и того, как решительно он настроен переселить нас в эту квартиру уже к Рождеству, и о билетах на самолет до Нью-Йорка я ей тоже рассказала, и о том, что он предложил Ру заняться его квартирой…
Зози удивленно на меня воззрилась.
— Правда предложил? — переспросила она. — Ну, если Ру согласится, значит, ему действительно деньги нужны. Я даже представить себе не могу, чтобы он сделал это только из любви к тебе.
Я покачала головой и вздохнула:
— Господи, какой кошмар! Почему он заранее не сообщил о своем приезде? Я бы все уладила, и все было бы по-другому. По крайней мере, я была бы подготовлена…
Зози присела за стол.
— Это ведь он — отец Розетт, верно?
Я не ответила и отвернулась, чтобы включить духовку. Я собиралась испечь партию имбирных пряников, какие обычно вешают на елку, — позолоченных, покрытых твердой «морозной» глазурью, с бантиком из цветной ленточки…
— Впрочем, дело твое, — продолжала Зози. — Анни об этом знает?
Я покачала головой.
— А кто-нибудь знает? Хоть Ру-то знает?
Силы вдруг совершенно покинули меня, я плюхнулась в ближайшее кресло, словно своими словами Зози подрезала мне сухожилия, в голове была полнейшая неразбериха; мне казалось, что я не только сил, но и голоса лишилась, что я просто с места сдвинуться не могу…
— Я не могу сказать ему об этом сейчас, — прошептала я.
— Ну так он ведь не дурак. Сам обо всем догадается…
Я молча покачала головой. Впервые я была благодарна судьбе за то, что Розетт не такая, как другие дети, — что в свои почти четыре года она и выглядит, и ведет себя как ребенок двух, от силы трех лет, а значит, вряд ли Ру поверит в невозможное…
— Слишком поздно, — сказала я. — Четыре года назад — да, возможно… но только не сейчас.
— Почему? Вы поссорились?
Она прямо как Анук. И я с удивлением поняла, что пытаюсь и ей тоже объяснить, что все не так просто, что дома нужно строить из камня, потому что, когда с воем налетает тот ветер, только крепкие каменные стены могут помешать ему унести нас прочь…
«К чему притворяться? — слышу я в ушах голос Ру. — Что заставляет тебя стараться соответствовать этим людям? Неужели они какие-то особенные, что ты так стремишься во всем быть на них похожей?»
— Нет, мы не ссорились, — сказала я. — Мы просто… разошлись в разные стороны.
Внезапный, поразительный образ возник перед моим внутренним взором — тот крысолов со своей флейтой, уводящий за собой всех детей Гаммельна, всех, кроме одного хроменького мальчика, которому было за ними не угнаться, вот он и остался по эту сторону, когда всех остальных поглотила гора…
— А как же быть с Тьерри? — спросила Зози.
Хороший вопрос, подумала я. А что, если он что-то подозревает? Тьерри ведь тоже далеко не дурак, хоть ему и свойственна некая душевная слепота, связанная то ли с излишней самоуверенностью, то ли с чрезмерной доверчивостью, то ли с тем и с другим. И все-таки к Ру он относится с явным подозрением. Вчера вечером я заметила и оценивающий взгляд, и инстинктивную неприязнь солидного столичного жителя к какому-то бродяге, цыгану, вечному страннику…
Ты сама выбираешь себе семью, Вианн.
— Впрочем, ты, я полагаю, свой выбор уже сделала, — сказала Зози.
— И не сомневаюсь, что мой выбор правильный. Уверена в этом.
Но я чувствовала, что она моим словам не поверила. Будто видела, как мои сомнения кружатся в воздухе над моей головой, словно ком сахарной ваты, который надевают на палочку. Но ведь существует так много разновидностей любви! И если горячая, эгоистичная, сердитая любовь давно уже сама себя сожгла бы дотла, то, слава всем богам на свете, существуют еще и такие мужчины, как Тьерри: надежные, лишенные воображения, считающие, что страсть — это просто слою такое, взятое из книжек, как «магия» или «приключение».
Зози по-прежнему смотрела на меня с той же терпеливой полуулыбкой, словно ожидая, что я скажу что-нибудь еще. Но я так ничего и не сказала, и она, пожав плечами, протянула мне блюдо с mendiants. Она делает их в точности по моему рецепту: хрупкий, тонкий слой шоколада, чтобы его вкус не перебивал всего остального, но все же чувствовался, щедрое количество крупного изюма, орехи, миндаль, засахаренные лепестки фиалок и роз.
— Попробуй-ка один, — предложила она. — Интересно, понравится тебе?
Аромат шоколада, чуть напоминающий запах пороха, витал над блюдом с mendiants, как аромат прошедшего лета, упущенного времени. На губах у него был вкус шоколада, когда я впервые его поцеловала; от земли, на которой мы лежали, прижавшись друг к другу, пахло мокрой травой; и ласки его оказались неожиданно нежными, а волосы так и сияли в лучах закатного солнца, точно оранжевые ноготки…
Зози все еще держала передо мной блюдо с mendiants. Небольшое блюдо из синего муранского хрусталя с маленьким золотым цветком на краю. Ничего особенного, но я это блюдо очень люблю. Ру подарил мне его еще в Ланскне, и с тех пор я всегда таскала его с собой, пряча в багаж, в карманы пальто, точно это не блюдо, а пробирный камень.
Я подняла глаза и увидела, что Зози пристально на меня смотрит. Глаза у нее были какого-то потустороннего, сказочно-синего цвета — такие можно увидеть только во сне.
— Ты ведь никому не скажешь? — спросила я.
— Конечно не скажу.
Она выбрала своими тонкими пальцами один mendiant и протянула мне. Отличный темный шоколад, пропитанный ромом изюм, ваниль, розовые лепестки, корица…
— Попробуй, Вианн, — сказала она с улыбкой. — Я случайно узнала, что это твое любимое лакомство.

