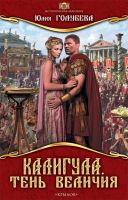12. Он будет жить
— Впоследствии мне довелось, — продолжал Баурджан Момыш-Улы, — слышать от очевидцев, как погиб Панфилов. Это случилось в деревне Гусеново, которую потом с лесной опушки мы видели в дыму и пламени.
В тот день Панфилов опять указывал цели командиру «катюш», «помахивал палочкой», по его собственному выражению.
Дивизия оставляла деревню за деревней, отходила на следующие рубежи, заставляла противника оплачивать кровью продвижение. Панфилов сидел со своим штабом в Гусенове, позванивал командирам — утраченная вчера связь наутро снова действовала, — следил по донесениям, а также по разным признакам, приметам, как мы, его войска, в жестоком оборонительном сражении выхватывали, выигрывали у противника еще один денек.
Пробравшаяся в какую-то брешь обороны немецкая пехота начала обстреливать Гусеново из минометов.
Наш неутомимый генерал надел полушубок — тот самый, памятный мне долгополый полушубок с вывернутыми мехом наружу обшлагами, — накинул на загорелую шею ремешок бинокля и вышел взглянуть, откуда ведется обстрел. Белая улица была испещрена черными метками разрывов. Полковник Арсеньев, вышедший следом за генералом, видел, как тот сделал по ней несколько шагов — своих последних шагов. Послышался нарастающий вой мины. Пламя и грохот взметнулись почти у ног генерала. Панфилов упал. Невредимый Арсеньев бросился к нему; небольшой, с горошину, кусок рваного железа пробил овчину на левой стороне груди, там где китель Панфилова был скромно украшен малозаметным, со стершейся эмалью, полученным еще в гражданскую войну орденом Красного Знамени.
— Мне до сих пор кажется, что я сам был в тот миг возле Панфилова. Мысленно вижу и сейчас землистую, смертную бледность, сразу подернувшую его лицо, вижу черные аккуратные щеточки усов и как бы удивленно изломанные брови.
Арсеньев плохо слушающимися пальцами принялся расстегивать, обрывая крючки, полушубок генерала. Мутнеющие глаза генерала разглядели, как взволнован, потрясен старый вояка-полковник. Панфилов успел прошептать:
— Ничего, ничего… Я буду жить.
Это были его последние слова.
Повторю: лишь впоследствии я узнал, как погиб Панфилов.
А на лесной тропе, когда впервые услышал соединенное с его именем краткое «убит», отказался верить, откинул, не допустил до сердца эту весть, приписал ее блиндажной неосновательной молве. Разумеется, я ничего не сообщил бойцам.
Марш батальона продолжался. Нашу колонну повел новый головной боец — Варя Заовражина. Она, смелая крупная девушка, родившаяся, взросшая в этой лесной стороне, засекла особой памятью все тропки, по которым шла разыскивать нас, удержала в уме всякие меты, что теперь направляли ее шаг.
Еще час, еще два часа ходьбы — и мы на краю леса. Близ опушки пролегала накатанная санная дорога. Мы увидели парную запряжку, влекущую розвальни с патронными ящиками, увидели шагавший в строю взвод в серых ушанках, в красноармейских шинелях. Бегом мы выскочили на дорогу. Наши, наши! Батальон вышел к своим.
Скомандовав привал, я побеседовал с командиром встреченного нами взвода, молодым лейтенантом. Спросил о Панфилове. И снова услышал:
— Убит.
Все же не верилось. Лейтенант уловил мое сомнение, достал из планшета фронтовую газету, развернул.
Черным прямоугольником траурной рамки были обведены знакомые дорогие черты. «Снимок сделан в день гибели полководца», — обозначено было под фотографией. Всегда верный слову, Панфилов сдержал обещание, которое при мне дал фотокорреспонденту, капитану Поворот Головы, — снялся на вольном воздухе в Гусенове. Портрет был изумительно живым. Рука, окаймленная черной овчиной, приподняла бинокль. Слегка прищуренные, монгольского разреза глаза пронизывали даль. Этот сосредоточенный прищур, складочка на переносье, две глубокие борозды около рта, острые, нимало не опущенные уголки губ, по-молодому крепких, — все, все было исполнено мысли. Да, мысли, проникновения, таланта!
В некрологе, что подписали начальник Генерального штаба, командующий фронтом, командующий армией, члены Военных советов, а также ближайшие соратники — друзья погибшего, Панфилов был характеризован как генерал-новатор, творец нового военного искусства, новой тактики современного оборонительного боя.
С тяжелой душой я смотрел и смотрел на газету. Прошелся, погруженный в думы. Затем приказал Бозжанову построить батальон.
На двадцатиградусном морозе у санной стежки в снежном поле выстроились мои бойцы. Двое — Варя Заовражина и Беленков — стояли поодаль. Я громко произнес:
— Товарищ доктор, займите, пожалуйста, место в строю.
Нарочно добавил это некомандирское «пожалуйста». Пусть слышит батальон! Блеклые щеки Беленкова порозовели пятнами — пятнами радости, смущения. Он встал в ряды санитарного взвода. Я покосился на Варю, ожидая, что встречу ее взгляд. Нет, даже глазами ни о чем не попросила, глядела прямо перед собой.
— Заовражина, становись в строй!
Если бы ранее мне кто-либо предрек, что я когда-нибудь сам скажу женщине, чтобы она встала в строй батальона, я бы лишь усмехнулся. А теперь вон оно как обернулось! Видимо, прав был Исламкулов: «Отечественная война изменяет многие понятия, делает возможным то, что прежде считалось немыслимым».
Почти неуловимая улыбка, — быть может, заметная лишь мне, — тронула крупные губы Вари. Она козырнула, широкой походкой зашагала к строю, встала рядом с седым добряком фельдшером Киреевым — своим названым отцом.
В две шеренги, взяв к ноге винтовки, стояли мои бойцы, небритые, прозябшие, измученные тяжелым маршем. А до штаба дивизии еще предстояло шагать добрый десяток километров. Надо было согреть сердечным словом, подбодрить солдата.
Я выехал к строю на Лысанке и, каждому зримый, закатил речь. Сначала я поздравил бойцов со званием советских гвардейцев, сказал о наших подвигах. Каждая рота увенчала себя доблестью. Сто двадцать бесстрашных — бойцы роты Филимонова — окружали и разгромили немецкий батальон.
Вчерашний московский школьник рядовой Строжкин взял в плен командира батальона.
— Строжкин! Три шага вперед! Повернись лицом к товарищам. Пусть посмотрят на тебя. Но не загордись! А то велю нарвать крапивы и крапивой выпорю!
Эта моя шутка-присказка была давно известна батальону, и все же усталые лица прояснели, из простуженных глоток вырвался хриплый смешок. Я продолжал:
— Восемьдесят воинов лейтенанта Заева тоже приумножили славу советского солдата, атаковали с такой яростью, что сумели взять три немецких танка, набитых награбленными тряпками, громили, гнали барахольщиков, захвативших нашу землю.
Далее я сказал о геройской роте Брудного, почти поголовно погибшей вместе со своими командиром и со своим политруком.
— Эти наши товарищи, — говорил я, — не зря отдали жизнь. Два дня эта рота, окруженная врагами, удерживала опорный пункт на Волоколамском шоссе, не позволила гитлеровским мотоколоннам пройти по шоссе. Честь и слава нашим павшим братьям! Родина вовек их не забудет!
Держа речь о героях боя в Горюнах, я вызвал из рядов пулеметчика Блоху, повернул его лицом к батальону. Шея этого белобрового солдата была забинтована. Раненный, он остался на посту, продолжал драться. Не оставил пулемета и во время нашего марша-отхода.
Подошел черед и слову о Панфилове. Я сказал, что наш генерал погиб. Сказал о строках, посвященных его памяти, в которых он назван генералом-новатором. Таким он и войдет в историю.
— Иван Васильевич Панфилов, — продолжал я, — был очень человечным, чутким к человеку. Он уважал солдата, постоянно напоминал нам, командирам, что исход боя решает солдат, напоминал, что самое грозное оружие в бою — душа солдата. На этом Панфилов и основал свое новаторство в тактике оборонительной битвы. Он ушел от нас, изведав высшее счастье творца. Его новая тактика была испытана таранными ударами врага и выдержала эти удары. Он исполнил дело своей жизни. Находясь близко к очагам боя, он незримо касался рукой плеча командиров, удерживал войска от преждевременного отхода. И если сейчас, на пятые сутки немецкого наступления, нам, нашей дивизии, принадлежит вот эта дорога, вот это поле, этот рубеж и дивизия по-прежнему грозна, то этим мы обязаны ему, Ивану Васильевичу Панфилову. Он был генералом разума, генералом расчета, генералом хладнокровия, стойкости, генералом реальности.
Я перевел дыхание — оно вылетело изо рта белым парком, — подумал. Напряженно подумал, еще не удовлетворенный своим словом. И продолжал:
— По рождению, по воспитанию, по натуре он был глубоко русским человеком. Знал и любил прошлое и настоящее русского народа, гордился его славными сынами, творениями, делами. И уважал все другие народы.
Мысль стремилась схватить, выразить нечто самое главное в Панфилове. Пробегая глазами по рядам, я остановил взгляд на Заеве. Насупив лохматые рыжеватые брови, он внимал мне.
— Лейтенант Заев!
— Я!
— Все вы, товарищи, знаете командира второй роты лейтенанта Заева. В недавних боях он дрался так, что не грех о нем сказать: герой среди героев! Однажды он молвил о нашем генерале: глашатай! В тот раз я не понял, что он разумеет. А сейчас повторю, товарищ Заев, это твое выражение. Да, генерал Панфилов был глашатаем возвышенной, великой идеи. В каждом слове, которое мы от него слышали, жила эта идея, великая идея революции угнетенных и трудящихся, ленинский огонь. Это был генерал-коммунист, сын партии, воспитавший нас, воинов Советской страны, — и тех, кто хранит партийную книжку на груди, и беспартийных.
Ощущая невидимый ток, соединявший меня с батальоном, я теперь знал: слово найдено, дошло!
— Товарищи, я только что назвал Панфилова генералом реальности. Нет, этого мало! Он был генералом правды.
Хотелось рассказать бойцам, как он прямо, бесхитростно заявил мне: «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Хотелось воскресить его тон, суровый и нежный. Но я молча смотрел на своих бойцов. Вот мы вернулись, а его нет… Я сказал:
— Память об Иване Васильевиче Панфилове будет, товарищи, жить в наших делах, в подвигах его дивизии!
По пути в село, где пребывал штаб дивизии, обнаружился Рахимов. Оказалось, что, натолкнувшись на немцев, он не смог к нам присоединиться, покружил в лесу и выбрался оттуда в одиночку раньше нас. Затем он был задержан постами заградительного отряда. Суровый пожилой командир отряда, бывший моряк с глубоким шрамом наискосок лба, отнесся недоверчиво к моему начштаба, потерявшему свой батальон, и отправил в промерзший сарай, что называется, до выяснения.
Разумеется, в моем разговоре с моряком «выяснение» тотчас состоялось. Освобожденного Рахимова я встретил сухо:
— Получили, товарищ Рахимов, что положено. Вы обязаны были отыскать нас в лесу. Поторопились выбраться. Поспешили в тыл.
— Я, товарищ комбат, предполагал…
— Ничего не хочу слушать. Я вас нашел в тылу.
Рахимов молчал. Конечно, он отлично умел исполнять, но, оставшись без командира, предоставленный в лесу самому себе, растерялся. Я продолжал мягче:
— Ладно. Посидели час в холодной, и на этом точка! Догоняйте батальон. Занимайте свое место.
— Есть!
…День уже перевалил на закат, когда мы проселочной дорогой опять ступили на Волоколамское шоссе, подошли к широко раскинувшемуся, вознесшему к небу церковные луковки селу. Приставший к асфальту снег был спрессован колесами грузовиков. Мороз усиливался. Налет инея сделал седыми примкнутые к винтовкам штыки. Заиндевевшие кони, размещенные меж стрелковыми подразделениями, тянули две наши пушечки, розвальни и двуколки с пулеметами, сани хозяйственного взвода, где разместились раненые, поставленный на полозья крытый кузов санитарной линейки, тоже с ранеными.
Я шел во главе колонны рядом с Толстуновым и Рахимовым.
Штаб дивизии расположился в каменном здании, глядевшем на обширную — вероятно, некогда базарную — площадь. Здесь я скомандовал батальону:
— Стой!
На крыльце уже стояли вышедшие нам навстречу некоторые штабные командиры. В центре выделялся человек в кожаном черном пальто с воротником серой мерлушки, в мерлушковой же шапке, что носили генералы. Я узнал крепко сбитую фигуру Звягина. Прокричал:
— Смирно! Равнение напра-аво!
И, обнажив шашку, или, как мы, военные, говорим, салютуя клинком, пошел через всю площадь строевым шагом к заместителю командующего армией. Огромное красное солнце уходило за не застланный облаками горизонт. Багрянец играл на узорчатом светлом лезвии, которое я, печатая шаг, держал перед собой.
В душе переплелись разные чувства: и гордость, и — чего скрывать! — некое затаенное удовлетворение: вот тебе партизан с шашкой!
Звягин не дал мне подойти. Он легко сбежал с крыльца, отодвинул мою шашку, проговорил:
— Брось ты, Момыш-Улы, свой штучки!
Обнял меня за плечи и по-русски поцеловал в губы.
Я со вспыхнувшей вдруг нежностью смотрел на этого генерала с тяжелой рукой, который три дня назад приказал мне сдать командование, а теперь без лишних слов одним объятием, одним поцелуем зачеркнул свой приказ.
Вновь попытавшись салютовать, я произнес:
— Товарищ генерал-лейтенант! Резервный батальон командира дивизии…
— Брось, Момыш-Улы! — вновь воскликнул Звягин. — И людей зря не томи.
Своим мощным, звучащим колокольной медью басом он скомандовал:
— Вольно! Можно курить.
Вынув из кармана коробку папирос высшего сорта, он раскрыл ее передо мной:
— Кури.
Я взял папиросу. Звягин опять запустил руку в карман, и… в его крепких пальцах с блестящими, коротко стриженными, видимо твердыми, ногтями я увидел зажигалку Панфилова. Так вот кому Панфилов ее подарил! Как он сказал? «Преподнес со значением одному человеку…» Вот кто этот «один человек!» Звягин подержал зажигалку меж теплыми ладонями. Знал ли он, с каким значением Панфилов подарил ему эту вещицу? В светлых глазах Звягина, под которыми, как и прежде, набухли небольшие отеки, промелькнула ироническая искорка. Черт возьми, возможно, ему было известно, что Панфилов хотел подарить ее и мне. И тоже со значением! Не обмолвившись про это ни словечком, мы лишь обменялись взглядами.
Чирк — возник огонек. Мы закурили.
— Ставьте большую-пребольшую точку, — сказал Баурджан Момыш-Улы. — На этом мы закончим нашу летопись о батальоне панфиловцев. Двадцать третьего ноября тысяча девятьсот сорок первого года я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб армии, назначили командиром полка. Свои батальон я передал Исламкулову. Применяя панфиловскую спираль-пружину, огревая гитлеровцев огневыми пощечинами, мой полк отходил — отходил до поселка и станции Крюково. Там, на Ленинградском шоссе, мы выдержали шестидневный бой и вместе с другими частями Красной Армии, поворачивая историю, погнали врага от Москвы. Об этом можно было бы написать еще одну книгу под заглавием «Ленинградское шоссе». Можно написать и «Под Старой Руссой». Но — книга кончена! И в будущем могу обещать вам лишь одно…
Положив свою точеную кисть на рукоять шашки, Момыш-Улы одним махом неожиданно извлек клинок. В полутьме блиндажа засияла узорчатая сталь — та, что сверкнула и в зачине, и только что, в последней главе этой книги.
— Лишь одно, — повторил Момыш-Улы. — Наврете — кладите на стол правую руку. Раз! Правая рука долой! Вы подтверждаете ваше согласие?
Я скрыл улыбку. Мой грозный Баурджан, ты верен себе, характеру, что создан под пером, создан вниманием и воображением. Впрочем, писцу следует быть скромным.
— Подтверждаю, — сказал я.
1942—1960
Назад: 11. Еще три дня
На главную: Предисловие