Свидание на Мясной
Огромный семиэтажный корпус Анненкова дома одиноко возвышался над развалинами. Немцы щадили его, вероятно, потому, что он служил ориентиром для них, зато окружающие его кварталы были почти неузнаваемы. Обломками был засыпан и берег Артиллерийской бухты, где раньше пестрели бесчисленные ларьки базара, у которого начиналась Мясная улица.
Озираясь вокруг, Кирюша сравнивал все, что представало перед его тоскливым взором, с тем, что неизгладимо запечатлелось в воспоминаниях счастливого детства. Вроде и не бурлила здесь жизнь. Только солнце, благословенное солнце Черноморья сверкало ослепительной рябью на штилевой поверхности бухты, где Кирюша вместе со своими сверстниками учился плавать и доставать с морского дна желтый песок.
Дощатые стены ларьков базара и длинные столы рыбных рядов были разметаны взрывными волнами по берегу и валялись на спуске Мясной улицы вперемешку с почерневшими кирпичами известняка.
Кирюша перебежал пустырь между домом Анненкова и Мясной улицей и, замедляя шаги, приблизился к лабиринту развалин.
Кое-где из хлама и золы выдавались ступени крылечка, обводы каменного фундамента, по краям которых уже пробивались ростки зелени; виднелись кухонные плиты, искривленные, сплюснутые кровати, воронённые жаром чугунные горшки.
Мясная улица вымерла. Ни единого существа — ни человека, ни собаки, ни кошки, ни птиц нельзя было обнаружить на ней. Обитатели ее, должно быть, частью погибли под бомбами, частью разбрелись кто куда.
Будто по кладбищу, бродил подросток среди засыпанных щебнем и обгорелыми досками черных квадратов обугленной земли. Ни дома номер один, в котором жили Приходько до начала войны, ни соседнего третьего номера, где нашли приют мать и брат Кирюши, когда немецкий снаряд разнес их квартиру, не существовало на Мясной улице. В этом уютном домике, обсаженном акациями и обнесенном палисадником, жила семья капитана дальнего плавания Степана Максимовича Логвиненко.
Прошлое еще было настолько близко, что Кирюша помнил, каким все вокруг застал он три недели назад, когда в последний раз забежал к матери…
Над щебнем и пустырем в мареве летнего полдня пестрел нарядный домик, увитый диким виноградом. С крыльца в дом вел полутемный коридор. Две двери были расположены по сторонам: одна — в комнату, отведенную семье Приходько, а другая, сверкающая начищенной медью, — в квартиру капитана Логвиненко. За нею находился мир диковинных вещей, собранных в дальних плаваниях и заполнявших комнаты этой необыкновенной квартиры.
Модели кораблей; китайские божки из фарфора; окаменелые букеты разноцветных кораллов; препарированные и просмоленные летучие рыбки, распростершие крылья-плавники под потолком; высушенные морские звезды; мохнатые кокосовые орехи, терпко пахнущие от давности мылом; цейлонские слоны из черного дерева с жемчужинами вместо глаз; японские цыновки с изображениями пагод; турецкие янтарные мундштуки с микроскопическими фотографиями Босфора и Стамбула; похожий на страшное орудие пытки нос пилы-рыбы; всевозможные курительные трубки; моржовые клыки с искусной резьбой береговых чукчей, — все это были детали огромного мира, по которому всю жизнь скитался капитан. И каждая из них была поводом для множества увлекательных рассказов капитана всякий раз, когда он приезжал на две-три недели в отпуск.
Кирюша был постоянным гостем дома Логвиненко с тех пор, как подружился в школе с детьми капитана — одногодком Борисом и его сестрой Наташей. Наташа неизменно сопровождала мальчиков в их путешествиях по окрестностям Севастополя, а плавать и нырять умела не хуже Кирюши, который считался непревзойденным пловцом среди всех мальчишек, живших вокруг Артиллерийской бухты. Втроем они постигали замысловатое навигационное мастерство, которым последовательно и незаметно для маленьких слушателей насыщал свои рассказы капитан Логвиненко, прививая детворе любовь к морю.
Все изменилось, когда Кирюша, незадолго до войны, поступил учеником в механический цех Морского завода. Встречи школьных друзей стали реже и случайнее. Беззаботная пора детства отдалялась, но воспоминания о ней были неизгладимы.
…Фугасная бомба стерла с лица земли домик капитана Логвиненко, и в клубах ее разрыва неведомо куда исчезло все, что Кирюша надеялся найти здесь.
Взгляд подростка долго блуждал по руинам, пока не задержался на чем-то знакомом и памятном.
Из кучи щебня торчал угол рамки. Это была драгоценность Кирюши, его первая премия за отличную учебу — простенькая репродукция известной картины: в просторной уютной комнате, залитой мягким светом приспущенной люстры, Максим Горький читает Сталину, Молотову и Ворошилову свою поэму «Девушка и Смерть».
Он осторожно высвободил рамку из щебня; убедился, что картина уцелела, бережно обтер ее рукавом и, прижав к себе вместе с подарком капитан-лейтенанта, направился вверх по улице к дальним домам, надеясь там узнать что-нибудь о судьбе своих близких.
Его окликнули по имени, едва он поровнялся с подвалом седьмого номера, полузаваленным стенами верхнего этажа.
Кирюша замер, круто оборотясь.
Из квадратной черной щели к нему протянула руки сухощавая женщина в темном платье.
Сердце Кирюши сжалось.
— Мама, — негромко выговорил он, шагнув к ней навстречу.
Женщина притянула его к себе, порывисто и мягко зажала ладонями голову и принялась целовать запыленные ресницы.
— Сыночек, живой! Морячок мой, сколько передумала, о тебе… — плача от радости, шептала она. — Верила, что придешь, и боялась, что не свидимся. Погляди, что сделали изверги с нашей улицей! В пяти домах всех позасыпало. И откапывать некому. Логвиненковых Бориску и Полину Семеновну осколками убило. Наташеньку всю поранило из самолетного пулемета, когда мы щавель в Золотой балке собирали. Несчастная сиротка…
— А где она? — быстро спросил Кирюша.
— В госпитале. Я ходила до нее в главную штольню. Полдня блукала, пока нашла. Поправляется, только про своих ничего не знает. И пусть не знает. Все спрашивала про Степана Максимовича. Бедный Степан Максимович! Все враз — и жену, и сына, и родной дом потерял. Проклятые немцы… Кирюшенька!..
Исхудалые руки ее опять сжали Кирюшу с такой силой, какую нельзя было и предполагать в них.
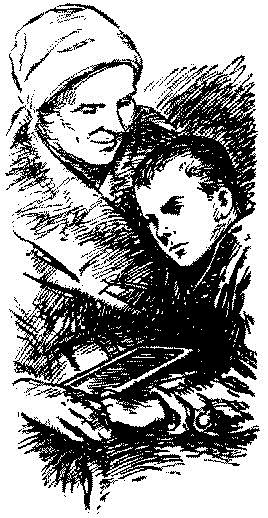
Снова в голубизне июньского неба, нарастая с каждой секундой, возник прерывистый клекот.
Подросток встревоженно вскинул глаза.
Стая черных птиц летела из-за холма Исторического бульвара, держа курс на Константиновский равелин, но кто мог предугадать замысел вражеских пилотов?
Мать забеспокоилась.
— Идем! — Она судорожно вцепилась в Кирюшу и подтолкнула его к входу в подвал: — Идем поскорее…
— Вот попадутся кочевникам, так те накостыляют! — спускаясь по изломанным ступеням, погрозился Кирюша. — Ого! Четыре по двести пятьдесят кило, — уверенно определил он, когда вдали один за другим раздались четыре взрыва.
— Какие кочевники? Что ты сочиняешь, Кирюша?
Теперь настала его очередь удивиться.
— Ты не слышала про кочевников? Да про них весь Севастополь знает!
Кирюша присел на устланный мягкой рухлядью, обложенный подушками топчан в углу подвала. Сняв, но не выпуская из рук автомат, он рассказал сначала о случайном визите к зенитчикам кочующей батареи на Приморском бульваре, затем принялся рассказывать обо всем: о вызове в штольню, о неожиданном отпуске, о подаренной книге, о гибели сейнера и своем путешествии по городу.
Мать разрыдалась.
Кирюша замолчал и насупился.
— Не серчай, сынок… Нелегко слышать такое. И разве хотела я поздравлять тебя в этой норе, где и лица твоего как следует не разгляжу? Люди дарят, а мне и подарить нечего.
— Нашла о чем горевать! Что я, без подарка не обойдусь? Где Николка? — спросил он о старшем брате.
— День и ночь в штольне, — проговорила она всхлипывая. — Их артель вместо кроватей и утюгов теперь гранаты и мины делает. Позавчера прибегал, паек принес. Я наказала ему сходить в порт и спросить про тебя. А то все одна и одна. Соседи поуходили кто куда…
Кирюша молчал. Слезы навертывались на глаза от жалости к матери, которой он был бессилен помочь.
Мать поняла его.
— Меня утешать не надо, Кирюша, — сказала она, заглянув ему в глаза. — Только себя береги.
Дрожащими пальцами она гладила его стриженую голову, ласково и настойчиво проводя по шершавой коже, будто стараясь стереть с нахмуренного лба Кирюши раннюю продольную морщинку.
Он осторожно развел ее руки.
— Надо итти, мама. Поцелуй за меня Николку. А это сховай подальше, — указал он на книгу и картину.
— Уходишь?!
Кирюша нерешительно нахлобучил фуражку.
— Да ведь пока доберусь — стемнеет, а мне еще в штольню явиться за назначением. Двести второй погиб…
— И опять на корабль, на лайбу? Сколько раз тонул…
— Разве я не моряк больше? — обидчиво сказал он и привычно нацепил автомат.
Горестный вздох матери камнем придавил сердце.
— Своей головой думаешь, сынок, — тихо говорила она, — это хорошо, но мне-то не легче. Все равно покоя не будет, пока не вернешься… Ой, как придется вам уходить! Говорят люди, что Мекензиевы горы сдали. Верно это?
— Правда, — понурясь, кивнул Кирюша и просяще сказал: — Ты, мама, тоже уходи. В Камышовую. Там корабли принимают эвакуированных. Возьмут до Новороссийска или до Туапсе, а потом обратно приплывешь.
Она покачала головой.
— Нет, дорогой. Где мои сыны жизнью рискуют, там и я буду, пока жива. И не уговаривай. Где бы ты ни был, знай: жду тебя в Севастополе.
Припав к нему крепким поцелуем, она долго не разжимала рук.
— Я приду, мама. Завтра приду…
Кирюша насилу разомкнул ее объятье, медленно вскарабкался по ступеням и, не оглядываясь, пошел вверх по Мясной.
Назад: Под Севастополем
Дальше: Путешествие через горку

