Письмо из Севастополя
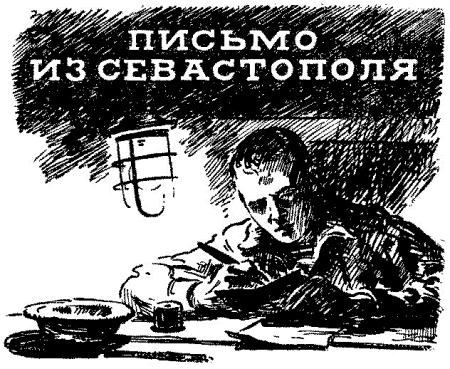
Прежде чем говорить о письме, которое я получил спустя два месяца после освобождения Севастополя, надо рассказать о том, с чего началась история этой книги: о моем знакомстве с Кирюшей Приходько, мотористом черноморского сейнера.
В конце февраля 1943 года, возвратясь в Геленджик с «Малой земли», как назывался отвоеванный десантом морских пехотинцев прибрежный плацдарм у Цемесской бухты, между Мысхако и западной окраиной Новороссийска, я провел несколько дней на Тонком мысу, в дивизионе сторожевых катеров — морских охотников.
Там и зашел разговор о сейнерах.
В памяти у нас еще не потускнели подробности высадки десанта: люди «тюлькина флота» вынесли на своих плечах и тяжесть непосредственной высадки десанта под огнем и не менее тяжкое снабжение гарнизона «Малой земли» всем необходимым.
В конце разговора я узнал, что база сейнеров находится в Солнцедаре, по соседству с Геленджиком.
На следующий день связной краснофлотец провел меня в Солнцедар. К сожалению, ни командира дивизиона сейнеров, ни его заместителя в базе не было. Командир ушел с очередным караваном к Мысхако еще накануне вечером, а заместитель безвылазно сидел на девятом километре от Новороссийска. Там, напротив плацдарма, где высадился наш десант первого броска, находилось большинство сейнеров, укрытых днем в доступных для их осадки заливчиках расщелин восточного берега Цемесской бухты. Оттуда они еженощно курсировали через бухту к плацдарму, перевозя боеприпасы, продовольствие и людей.
Рейд Солнцедара пустовал. Только несколько суденышек виднелись на песчаном пляже, подпертые с обоих бортов для устойчивости бревнами: вероятно, они были извлечены на берег для ремонта.
Досадуя на неудачу, я обошел базу и намеревался повернуть обратно к Тонкому мысу, чтобы найти оказию на девятый километр, когда заметил колоритную фигурку: идущего навстречу вдоль домов набережной мальчугана лет четырнадцати-пятнадцати в шапке-ушанке, высоких морских сапогах и ватном костюме. На груди подростка висел автомат, у пояса — диск с патронами и две гранаты.
Мое любопытство было задето. Чутье подсказывало, что знакомство может быть интересным.
Пыль, взвихренная шквалом ветра, вынудила меня на мгновение зажмуриться.
Когда я протер глаза, на улице никого не было. Мальчуган с автоматом исчез.
Было очень обидно, попросту говоря, проморгать его. Не зная, куда он делся, я наугад толкнул дверь ближайшего дома и очутился в базовой столовой.
Помещение было полно людей. За длинным столом сидели молодые, рослые, как на подбор, парни в бушлатах и ватниках. На скамье у окна разместилась группа девушек в краснофлотской форме. У противоположного края стола восседал на высоком табурете безусый чернявый лейтенант, а за ним, у двери на камбуз, рядом с поваром в белом колпаке стоял ускользнувший от меня мальчуган. Он попрежнему был при своих воинских атрибутах и только снял шапку, отчего выглядел совсем маленьким.
Обстановка несколько удивила меня: на застланном клеенкой столе не было ни еды, ни приборов.
Через минуту все выяснилось.
Чернявый лейтенант встал и объявил общее собрание комсомольцев базы отдела плавсредств Черноморского флота открытым.
— На повестке один вопрос, — продолжал он: — прием в члены Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Первым обсудим заявление Приходько.
Он прочел вслух заявление и, оборотясь, позвал:
— Ну-ка, иди сюда, Кирюша.
К столу, порозовев, шагнул мальчуган с автоматом.
Лейтенант покровительственно сказал:
— Главное, не смущайся и расскажи свою биографию, а то не все товарищи служат в нашем дивизионе с тех пор, когда мы еще в Севастополе воевали. Некоторые не знают, кто ты, откуда, за что получил орден и медали. Продолжай.
И вдруг раздался общий смех, потому что подросток озадаченно спросил:
— А почему продолжать, если я еще не начинал?
— Ну, так начни, — поправился председатель.
Мальчуган сжал обеими руками ремень автомата и оглядел собрание спокойным серьезным взглядом.
Улыбки на лицах погасли, едва он заговорил.
Слушая его бесхитростный рассказ, я думал о детстве и отрочестве подрастающего на смену нового поколения моряков. Кирюше Приходько шел шестнадцатый год. Около двух лет его жизни уже поглотила беспощадная борьба с захватчиками, участником которой он был с первого дня войны. Семь раз он тонул в бухтах Севастополя и Новороссийска, дважды был ранен, обгорел при взрыве бака с бензином, когда вражеский летчик расстрелял зажигательными пулями беззащитный сейнер. Суденышко рассыпалось кучей пылающих досок, его экипаж погиб, но маленький моторист выплыл, выжил и опять вернулся в свой дивизион, чтобы вынести еще одно испытание, которое под силу даже не всякому взрослому человеку. Его путешествие вокруг Цемесской бухты и через ледяную кручу Мархота стоило старинной народной поговорки: правда диковиннее вымысла.
Больше всего из рассказанного Кирюшей меня поразила фраза, которой он ответил, когда я обратился к нему на собрании.
— Вопросы к товарищу Приходько есть у кого? — поинтересовался председатель.
Я поднял руку:
— Разрешите?.. Что на горизонте, Кирюша? Например, насчет дальнейшего образования. Думал или еще недосуг?
Подросток не замедлил ответом:
— Конечно, думал. Буду учиться на механика. Мне капитан-лейтенант, наш комдив, обещал помочь. Только сейчас не уйду из дивизиона. Когда вернемся. — Он помолчал и решительно повторил: — Пока не вернемся, никуда не уйду. Пепел Севастополя стучит в мое сердце!..
Столько горя о разрушенном немцами родном городе и столько ненависти к врагу послышалось в этих словах, что не составило труда уразуметь, какая сила чувства таилась в смысле клятвы, похожей на книжную фразу, неведомо когда и где вычитанную Кирюшей из повести о Тиле Уленшпигеле.
Я дождался конца собрания и, поздравив Кирюшу, постарался узнать происхождение его клятвы.
Он вздохнул, призадумался, а затем рассказал мне все, что уже известно читателю: о дне рождения и последнем свидании с матерью, об аварии шлюпки в Балке Разведчиков и своем путешествии через горный перевал.
На прощанье я взял слово с маленького моториста, что он непременно напишет мне.
— Из Севастополя, — обещал Кирюша.
Мы расстались, не ведая, увидимся ли.
Миновало еще полтора года войны, пока подоспела наконец весна Крымской кампании 1944 года: дни стремительного наступления, проведенные на дорогах, сошедшихся у освобожденного Севастополя. Не однажды в эту пору я вспоминал о мотористе «СП-204», но встреча с ним так и не состоялась.
Только спустя два месяца в Москву пришло письмо из Севастополя. Привожу его почти целиком:
«…Вы, наверное, думаете, что я позабыл про свое слово, но это не так. А может быть, и вы позабыли про того, кто обещал написать вам это письмо, так я напомню, что пишет Кирилл Трофимович Приходько, моторист с черноморского сейнера «СП-204». Только теперь наш сейнер под другим номером, но это не важно: он тот самый. Сообщаю про свою жизнь с февраля сорок третьего, когда вы спрашивали меня. Помните чи нет? На комсомольском собрании, где меня приняли в ряды ВЛКСМ. Я все время на сейнере. Сначала мы брали Новороссийск и ходили с десантом в Анапу, а в девятнадцать ноль-ноль двадцать третьего октября последовал приказ нашему дивизиону — перебазироваться на косу Чушку возле Тамани, где наш сейнер возил всю зиму и до мая сорок четвертого все, что хотите. И оттуда я каждый день видел Крым, хотя он у Керчи некрасивый и не похожий на настоящий. И все в дивизионе каждый день мечтали об одном: что скоро будем дома, в нашем любимом Севастополе. Только на войне, как говорит Андрей Петрович, наш механик, не кажи гоп, покуда не перескочишь. Это правильно. А еще он сказал про немцев, что осенние мухи злее кусаются. Покусали они нас крепко, особенно в ночь со второго на третье ноября, когда мы с десантом славной и героической морской пехоты майора Белякова до Эльтигена переправлялись. Такой огонь открыли по нас, какого я не видал даже в Севастополе в июне сорок второго. По каждому сейнеру и мотоботу лупили. Хотели ослепить нас прожекторами, но тут им наша артиллерия дала пить через пролив. Как ударили дальнобойные с Тамани, так у немцев сразу охота светить пропала, и мы подошли до самого берега, потеряв два сейнера от прямой наводки и своего шкипера, старшину Баглая, которого убило наповал осколком в голову. Так что он даже не успел наказать, где похоронить его. Но мы схоронили его не в проливе, а на берегу, когда вернулись с десанта. И над его могилой моя звезда, выточенная из латуни в два дня. Наверное, вы это знаете, как мы всю зиму туда-сюда через пролив ходили вроде трамвая: то до Эльтигена, то до завода Войкова и до пристани Опасная, возили боеприпасы и продовольствие, а обратно тяжело раненных. Только днем очень мешала авиация противника. Немцы никакого Красного креста не признавали — строчили из пулеметов прямо по раненым. Ну, им тоже кисло было. Один пикировщик у всех на глазах нарвался. Хотел спикнуть на сейнер, а его наш ястребок прижал до моря, откуда он, конечно, не выпикнул. Все мы «ура» кричали, а наш Ермаков пять дней от ста граммов отказывался. Потом мы узнали, что он сливал их в бутылку и отнес пятьсот граммов в подарок летчику, который загнал немца на дно. Все мы обиделись на Ермакова за то, что сделал подарок в секрете, но самое обидное было в апреле и мае, когда люди Севастополь освобождали, а нам пришлось в Керчи и Феодосии дожидаться, чтобы поспеть на готовое. И все-таки из флота после торпедных катеров наш дивизион вернулся в главную базу первым и ошвартовался у Минной пристани. Что тут делалось!.. И комдив и многие другие плакали, как маленькие, и целовали севастопольскую землю. Только никого из своих мы не отыскали. Моя мама с голоду умерла, а про брата Николку никто не слышал: пропал без вести. Посидел я возле маминой могилы, у того подвала, где сховали ее соседи, и вернулся на сейнер. Нет у меня другого дома. Вчера весь день думал про свою жизнь, потому что исполнилось семнадцать лет и надо выбирать дорогу, как сказали все: и Андрей Петрович, и капитан-лейтенант, и Федор Артемович, который жив-здоров, воротился из немецкого тыла и теперь заместителем у нашего комдива. А я давно выбрал…»
Так заканчивалось письмо.
Им заканчиваю и я свои записки о Кирюше из Севастополя, проводив его в дальнее плавание по жизни.
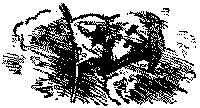
notes
Назад: Только вперед!
Дальше: Примечания

