Книга: Америка как есть
Назад: Глава восьмая. Уилсон, Симбирск и новый мир
Дальше: Глава десятая. Начало странного десятилетия
Глава девятая. Ревущие двадцатые
Сухой закон в Америке не с неба свалился, конечно же. До того, как федеральное правительство во главе с Хардингом, поджав бюрократические губы, решило запретить народу пить, сухой закон действовал уже на территории нескольких штатов. По-английски закон этот назывался одним словом – Prohibition, т. е. Запрещение, с большой буквы и без артикля.
Законы, касающиеся алкоголя, вообще популярны на территории Америки. Многие из них связаны так или иначе с американцами ирландского происхождения, особенно на Восточном Побережье, хотя Америка – страна изначально пьющая, и пьющая крепко – исторически. Сегодня, правда, об этом сразу не догадаешься – остальные страны прибавили в этом смысле. Поскольку духовность находится под непрерывным обстрелом средств массовой информации и под давлением со всех сторон, большинству людей жить на свете все скучнее. По сравнению с Парижем и Лондоном город Нью-Йорк сегодня выглядит аскетическим. В Нью-Йорке сегодня пьют столько же, сколько пили двадцать и пятьдесят лет назад. На эстетский взгляд автора – много. (Я много лет уже отдаю предпочтение сухому красному, в основном из провинции Бордо, реже из Калифорнии, отказался три года назад от пива, не понимаю водку и виски абсолютно, и очень редко потребляю коньяк, а собственно вино я пью от раза к разу, бывает три-четыре раза в неделю, а бывает раз в месяц, и могу не пить месяцами). Много пьют в Нью-Йорке. Но меньше, чем в Лондоне и Париже. Намного меньше, чем в любом большом городе России. Так вот, всего два года прошло с тех пор, как отменили закон в штате Нью-Йорк, который отменять не следовало – не потому, что он хорош был, полезен кому-то, или еще чего, а как исторический курьез. По этому закону запрещено было на территории штата продавать спиртные напитки в воскресенье. С исключениями. Закон распространялся только на магазины, специализирующиеся на спиртных напитках.
Закон этот появился в свое время потому, что в воскресенье ирландцу положено быть в церкви на службе, а не дома с бутылкой виски. Но бары, тем не менее, в воскресенье открывались в обычное время – в полдень.
Далее – вот какие законы действуют на территории штата —
Никто не может продавать спиртные напитки с четырех утра до полудня. (В этой связи, конечно же, была и есть целая сеть баров без вывесок, специализирующаяся именно на веселии после четырех утра).
Магазины, не специализирующиеся на продаже спиртного (супермаркеты, например) не имеют права продавать напитки, содержащие больше шести градусов алкоголя. То бишь – только сильно разбавленное вино (для латиноамериканцев) и пиво.
В соседнем Нью-Джерзи, через речку, вино можно купить хоть в восемь утра в воскресенье на автозаправочной станции. Не говоря уж о супермаркетах. А винные магазины имеют внутри стойку, и продавец по совместительству является барменом (в Нью-Йорке такое немыслимо).
И так далее.
Есть непреложный социальный закон, действующий всю историю человечества. Запрещение любого товара ведет к возникновению черного рынка. Второй непреложный закон, сопутствующий первому – за исключением продажи книг, черным рынком на всех уровнях правят вычурно одевающиеся уголовники.
Как только федеральный сухой закон вступил в силу, импортом и продажей алкоголя тут же занялись все без исключения преступные группировки на территории страны. Бары ушли в подполье, но настолько неглубокое, что похоже было на водевиль. Все знали, где эти бары находятся (многие рестораны также имели «заднюю комнату», достаточно просторную для танцев, а танцевали тогда все и везде).
Цены на алкоголь, конечно же, взлетели. Также, появилось много напитков, потреблять которые даже в малых количествах было опасно для здоровья. Самым распространенным агрегатом для домашнего производства некоторых сортов виски и джина сделалась ванна. Появилось огромное количество искусных подделывателей этикеток.
А также огромную популярность завоевали себе коктейли – мода на них не прошла по сей день. Понятно, что если залить клюквенным соком или сельтерской на три четверти хоть бензин, хоть спирт для растирания утомленных суставов, – пить будет приятнее. Особенно если предварительно наполнить стакан льдом до краев.
Поставщики-бутлеггеры доставляли алкоголь на дом, каждый имел клиентуру.
Это не значит, что нигде в Америке не было в двадцатые годы хорошего пива или доброго вина. Виноградники работали на экспорт, и часть экспорта застревала на территории. Канадскую и мексиканскую границы, кроме того, можно перейти в тысячах никем не охраняемых мест. Ввозом алкоголя в Америку занялись также многие европейцы. И, конечно же, богатые как пили лафит да экстра-олд коньяк, так и продолжали, не скрываясь. Был запрет на торговлю. На потребление запрета не было.
Иные таксисты держали в потайных местах в машине дюжину бутылок.
Итальянская мафия усилилась и обрела широкую известность благодаря, в частности, торговле алкоголем.
И было в связи с этим много пальбы. В основном стреляли в конкурентов.
Полиция была, во-первых, куплена, а во-вторых, ирландцы составляют в полиции большинство. Закончив смену, полицейский снимал форму и шел пить в спик-изи (speak-easy).
И было, не смотря ни на что, очень весело. Бесшабашно как-то. Джаз, Кальман, фокстрот, первые мюзиклы, расцвет Великого Белого Пути (так называли из-за круглосуточной яркой освещенности театральную часть Бродвея), очень витиеватый, порой очень забавный, уличный сленг, увековеченный, в частности, именно тогда снискавшим популярность Деймоном Раньоном, пришедшим в литературу по одной из американских традиций из журналистики и отстреливающим двумя пальцами (!) семьдесят пять слов в минуту на машинке («Утро холодное, как сердце блондинки») – и никаких войн! В это очень верили. Считалось, что войны всегда ведутся в Европе, поскольку европейцы – милитаристы по натуре. А нам войны не нужны. Мы лучше будем веселиться.
В 1924-м году умер последний великий оперный композитор – Джакомо Пуччини, почти успев закончить последний свой шедевр – оперу «Турандот». Незадолго до смерти он написал кому-то, что опера закончилась, как жанр, поскольку «аудитории согласны терпеть музыкальные опусы без мелодий». Так ему казалось в Италии. Он был прав и не прав. Да, итальянцы, австрийцы и даже немцы, составлявшие большинство «ценителей серьезной музыки», действительно слушали всякое формалистское и атональное говно – бесконечных бюрократов от музыки, большинство чьих фамилий сегодня прочно забыто, некоторые остались, поскольку имели больше полезных знакомств в музыкальном мире – Малер, Барток, Берг, Шонберг, Шостакович, Ивз, Копланд, Нильсен, Бриттен. И все же, и все же…
Обычный снобизм, нахальный эстетизм – явления в общем полезные. Но бюрократический снобизм – это очень тоскливо и уныло. Бюрократ не действует, но функционирует, не чувствует, но реагирует, не выражает, но включается, как звуковоспроизводящее устройство. Вся эта шушера, «ценители серьезной музыки» по бюрократической традиции презирали легкие жанры, а именно там, в легких жанрах, музыка продолжала жить – в двадцатые, тридцатые, сороковые годы. Механизировалась она только в середине пятидесятых.
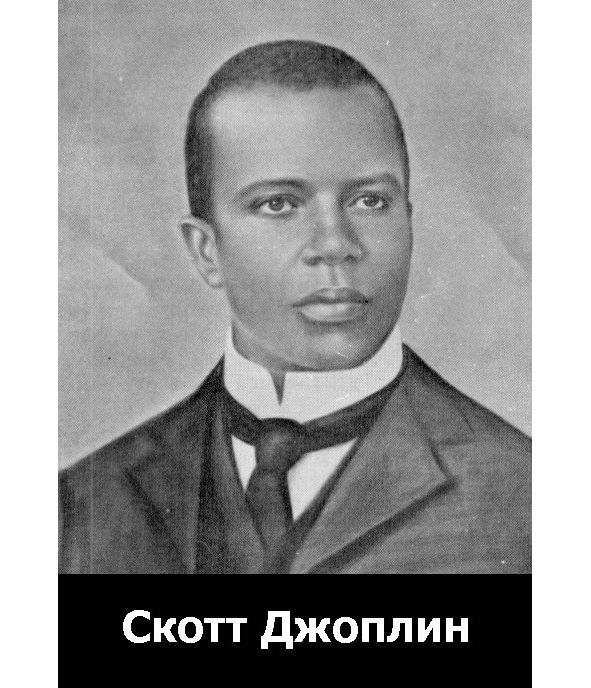
Скотт Джоплин, композитор
Скотту Джоплину сегодня помогает происхождение – он был негр. Тем не менее, несколько его фортепианных вещей, несмотря на джазовую зацикленность, шедевральны. Начал писать музыку Джордж Гершвин – последователь одновременно Кальмана и Чайковского, плюс джазовые формы времен Бель-Эпокь, такое вот странное сочетание. Чарли Чаплин к своим фильмам музыку писал сам, и писал неплохо.
К сожалению, уже тогда возникла порочная практика музыкальной импровизации в концерте, и тогда же начали путать исполнителей с композиторами. К примеру, все известные вещи Луи Армстронга написаны вовсе не им.
Тем не менее – музыка звучала повсюду, и большинство этой музыки было – живое. Т. е. было уже тогда радио, и не первое десятилетие существовала звукозапись – но в кафе, в ресторане, в нелегальных барах играли живые, не усиленные электричеством, инструменты.
Кругом была, поспешим заметить, если не нищета, то, по крайней мере, бедность. Но на нее не обращали внимания! Продовольствия почти всем хватало. Веселились. Говорят, переломным стал год обвала биржи, но это не так. Когда рухнули акции, никто, кроме самих акционеров, не стал беднее. Бедных и так было очень много – в то время, и по всему миру, и в Америке тоже. Обвал был просто сигналом. В доказательство того, что обвал этот был – чистая символика, а вовсе не реальная экономическая данность – вот вам забавный факт. Биржа грохнулась в 1929-м году. Пиком последующей Великой Депрессии считается 1933-й год. Эти два года являются также годами начала и завершения постройки самого красивого небоскреба на земле – Эмпайр Стейт, на Тридцать Четвертой Улице. Откуда-то ведь взялись деньги на его постройку, не так ли.
Никто и не заметил, как иммигрант из России, именем Владимир Зворыкин, запатентовал «иконоскоп». Массовая промышленность еще целых тридцать лет возилась с этим его изобретением, пока наконец не вычислила, как лучше всего запустить новшество на рынок.
Меж тем Генри Форд продолжал штамповать автомобили. Наметилась первая волна субурбанизации – слабая, медленная, но неприятно масштабная.
Пришло время сказать несколько слов об интеллигенции.
Американская интеллигенция, вместе со всеми интеллигенциями всех цивилизованных стран, влюблена была – сперва в естествознание и равноправие женщин, в Дарвина, в Маркса, в идею существования без Бога. Затем вся она, за исключением русской интеллигенции, влюбилась в Русскую Революцию (русская интеллигенция в ней, революции, быстро разочаровалась – но у нее выхода не было, по ней открыли огонь).
Это несерьезно, скажут мне. Уж прямо ВСЯ интеллигенция. Были ведь и думающие люди тоже.
Были. Но у них, думающих, тоже выхода не было, как только влюбиться в эту самую Революцию. В идею Коммунизма. Им с отрочества внушали, что Бога нет. А некоторые евангельские истины им помнились. Вот они и поверили – в Новый Завет без Бога. Как раз образ Советской России очень подходил к этому понятию.
Все это было, конечно, не просто наивно – чудовищно. Позицию интеллигенции вне России, в том числе американской, очень красноречиво выразил в нескольких своих предисловиях к пьесам английский драматург Джордж Бернард Шоу. Привожу здесь несколько фрагментов из его предисловия к пьесе «На Мели». Прошу простить за погрешности перевода. В некоторых местах я, правда, намеренно перевел дословно, вместо того, чтобы искать русский эквивалент. Для доходчивости.
***
Дж. Б. Шоу. Из авторского предисловия к пьесе «На Мели».
Мнение, что общество должно быть устроено таким образом, чтобы человек не боялся физического уничтожения если он не убивает, не воюет против Короны, не похищает людей, не кидается серной жидкостью – не только ненужно лимитирует гражданскую ответственность, но и отвлекает внимание от основного оправдания уничтожения, кое оправдание есть – неистребимая социальная несовместимость…. Единственная страна, которая проснулась и увидела действительное положение вещей – Россия. Когда Советское Правительство занялось переходом от Капитализма к Коммунизму, оно обнаружило, что у него нет инструментов для поддержания порядка кроме списка преступлений и наказаний, входящих в ритуал уголовного кодекса. В этом списке не было места самым худшим преступлениям против Коммунистического Общества – наоборот, такие преступления традиционно чтились и награждались … Бездельник, самый распространенный враг человечества, грабящий всех и всегда, и чей собственный карман всегда тщательно охраняется, не заслужил в соответствии с уголовным кодексом никакого наказания и даже, в прошлом, ввел суровые законы против тех, кто мешает его безделью. Делом Советов стало сделать все дела общественными и всех граждан – слугами общества. Но на взгляд обычного русского гражданина любой общественный пост был подарком судьбы, возможностью ничего не делать, иметь привилегии, нагло вести себя с публикой и брать у нее взятки. Например, когда русские железные дороги коммунизировались, некоторые начальники станций поняли это в том смысле, что отныне они могут быть так ленивы и безответственны, как пожелают, в то время как на самом деле им следовало, и это было жизненно важно, удвоить свою активность и напрячь каждый нерв, чтобы сделать железнодорожный сервис более эффективным. Бедный комиссар, будучи Министром Транспорта, оказался перед необходимостью носить в кармане пистолет и расстреливать собственноручно тех начальников станций, которые выкидывали его телеграммы в мусорное ведро, вместо того, чтобы следовать приказам, в них содержащимся, расстреливать для того, чтобы иметь возможность убедительно спросить остальных служащих станции, хорошо ли они поняли, что приказы даются для того, чтобы им следовали.
Министр Транспорта, или министр любого другого общественного сервиса – работа с полной загрузкой. Ее нельзя перманентно совмещать с любительским палачеством, и заодно зарабатывать себе во всех капиталистических газетах Запада репутацию ужасного и хладнокровного убийцы. В то же время никакие дополнения к уголовному кодексу не могут включать в себя списки такого рода преступлений, заслуживающих наглядного уничтожения в назидание другим, даже при наличии растущей необходимости избавляться от людей, которые не могут или не хотят найти себе место в новом порядке и подчиниться новой морали. Можно было бы легко отметить некоторые преступления, и назначить наказания, старым методом – например, если ты занимаешься накоплением денег, тебя расстреляют, если ты спекулируешь на разнице между покупательной способностью рубля в Москве и Берлине, тебя расстреляют, если ты покупаешь в кооперативе, чтобы продать в частном магазине, тебя расстреляют, если ты берешь взятки, тебя расстреляют, если ты подделываешь расчетные книги фермы или фабрики, тебя расстреляют, если ты эксплуатируешь работающих на тебя, тебя расстреляют – и было бы бесполезно уверять, что тебя воспитали таким образом, что ты воспринимаешь все эти действия как совершено нормальные, и что все лучшее общество вне границ России с тобой согласно. Но самый тщательно продуманный кодекс такого сорта все равно не учел бы сотни вещей, к которым прибегли бы враги Коммунизма, избежав основных вопросов – а ты оправдываешь ли свое пребывание на общественном корабле? А ты не мешаешь ли больше, чем приносишь пользы кораблю? А заслужил ли ты привилегию жить в цивилизованном обществе? Вот почему русские не имели другого выхода, как только создать свою Инквизицию, или Звездную Комнату, которая сперва называлась Че-Ка, а теперь ГПУ. Эта организация и занялась вышеуказанными вопросами и «ликвидацией» персон, не могущих адекватно на них ответить. Гарантией непревышения полномочий для Че-Ка был факт, что в интересы этой организации не входило ликвидирование людей, которые могли приносить общественную пользу. Их интересы были как раз противоположные.
Новшество это нас ужасно пугает. Мы все еще работаем над системой лимитированного морального бремени. Наши «свободные» британские граждане совершенно точно знают что им можно, а что нельзя, делать, чтобы не попасть в руки полиции. Наши бизнесмены знают, что нельзя подделывать акции или увеличивать сумму прибылей, когда посылаешь отчеты акционерам. Но, если они следуют нескольким условиям этого толка, им никто не запретит заниматься вполне легитимными, но не менее преступными, операциями. Например, придерживать пшеницу или медь или любой другой продукт, чтобы взвинтить цены для получения огромной прибыли для себя, или заниматься науськиванием стран друг на друга в прессе, чтобы стимулировать частную торговлю оружием. Такое лимитированное моральное бремя не существует более в России, и вряд ли в будущем будет существовать в любой высокоцивилизованной стране…. Придерживателя продуктов невозможно обвинить ни в чем, руководствуясь уголовным кодексом, но легко убедить скольких угодно разумных людей, что он «не прав». В России результатом такого убеждения разумных явилось бы исчезновение этого человека и получение его семьей письма, в котором бы говорилось, чтоб они его не ждали, домой он больше не возвратится. У нас у него и слава и персональная безопасность, и он благодарит свою звезду, что живет в «свободной стране», а не в Коммунистической России. Заметим, однако, что обвиняемый не должен быть настолько убежден, что получит приговор к уничтожению, чтобы пытаться избежать ареста, убив своих преследователей. Но поскольку новый трибунал был навязан России обстоятельствами, а не спланирован неспешно в свободное время, два института, ГПУ и обычная полиция, руководствующаяся уголовным кодексом, работают плечо к плечу, и в результате получается, что лучший способ убежать от ГПУ – совершить обычное преступление и найти убежище в руках полиции и магистрата, которые не могут тебя уничтожить, поскольку смертная казнь в России отменена (ликвидация от рук ГПУ – не наказание, но «очистка сада от сорняков»). И тюремное заключение будет не очень долгим и вскоре, если преступник ведет себя хорошо, будет ему амнистия. Поскольку несколько лет заключения считаются достаточным наказанием за обычное убийство, придерживатель продуктов, найдя, что его скоро вычислит и ликвидирует ГПУ, скорее выйдет из себя и убьет свою тещу, заработав себе по крайней мере несколько спокойных лет жизни, в тюрьме. Рано или поздно это положение дел будет изучено и продумано до логического заключения во всех цивилизованных странах.
Когда Шарлемань основал Священную Римскую Империю (во всяком случае, он ее основал больше, чем кто-либо), он настаивал, чтобы все подданные Империи были католики, и предпринял дилетантскую попытку утвердить социальную стабильность, убив всех, кто был в его власти но не желал креститься. Но далеко он пойти в этом направлении не мог, поскольку есть птица, которую нельзя убивать ни под каким предлогом, а именно – гусыня, несущая золотые яйца. В России Советское Правительство начало с шарлеманьской попытки уничтожения всей буржуазии, классифицируя ее как интеллигенцию, лимитируя ей рацион, и ставя ее детей в самый низ переполненного списка стремящихся получить образование. Так же прописали кулака (способного, упрямого фермера с крепкими кулаками, который был богаче своих соседей и хотел, чтобы они, соседи, продолжали быть беднее его). Его власть грубо взяла за плечи и выкинула нищим в переулок. Причины для такого отбора были достаточно веские, поскольку моральный кругозор буржуазии и кулаков был опасно антиобщественным. Но результаты оказались катастрофическими. Буржуазия содержала в себе класс профессионалов и класс производственных организаторов. Без профессионалов и организаторов промышленность перестала работать. А надежда, что отборные члены пролетарского класса могли бы выполнять эти обязанности, движимые лишь врожденными способностями, чудовищно не оправдалась. Когда кулака выкинули с фермы, и его фермерские способности были парализованы, начались перебои с едой. Очень скоро кулака закинули обратно на его ферму и велели продолжать работать, пока не пробил его час. И была создана приятная условность, согласно которой все образованные люди, желающие убедить власти в том, что их отцы «своими руками возделывали землю», какими бы очевидно ледями и джентльменами не были, были приняты в общество как настоящие пролетарии и переведены из позорной категории интеллигенции в почетный «интеллектуальный пролетариат». Даже Ленин и его коллеги, все как один ультра-буржуа (иначе они не переоценили бы так абсурдно интеллектуальный потенциал пролетариата, и не презирали бы так отчаянно веру собственного класса в его, класса, незаменимость) позволили, чтобы об их собственных родителях отзывались как о возделывателях почвы с мозолистыми руками. Сегодня эта шарада звучит, как забавный анекдот, но вы тем не менее услышите ее всякий раз, если обвините русского или русскую в том, что он джентльмен или леди.
Тем не менее, все это – переходный период. Русский пролетариат сегодня растит свой собственный профессиональный и организаторский класс. Экс-буржуа вымирают, видя, как дети их получают коммунистическое образование и читают им, их родителям, лекции об их старомодных предрассудках. А у планирующих Советское Государство нет времени, чтобы заниматься дурными вопросами. Они стоят перед лицом новой и огромной необходимости истребления крестьян, которые до сих пор существуют в больших количествах. Мнение, что цивилизованное государство может быть создано из любого материала есть просто старое заблуждение радикалов. Построить Коммунизм из того мусора, что производит капиталистическсая система – невозможно. Для Коммунистической Утопии нам нужно население, состоящее из Утопистов. Утописты не растут на кустах и их не подберешь в трущобах. Их следует культивировать осторожно и дорого. Крестьяне не подходят – а ведь без крестьян коммунисты никогда не завладели бы Русской Революцией. Номинально, именно Советы крестьян и солдат поддержали Ленина и спасли Коммунизм, когда вся Западная Европа накинулась на него, как свора гончих на лису. Но все солдаты были те же крестьяне, а все крестьяне хотят собственности, и военный элемент лишь прибавил к крестьянскому кличу «Дай нам землю!» клич «Дай нам мир!» Ленин, в общем, сказал, «Возьмите землю, а если кто-то с феодальным складом ума вам мешает, уничтожьте их, но не жгите их дома, поскольку они вам понадобятся для жилья». И в результате получившиеся легионы малых землевладельцев сделали позицию Ленина неприступной и дали Троцкому и Сталину красных солдат, которые победили контрреволюционеров в 1918-м году. Ибо контрреволюция, в которой мы, к нашему несмываемому стыду, приняли участие (Англия подает пример революции и потом нападает на все страны, которые имеют наглость этому примеру следовать) имела в виду привести обратно предыдущих землевладельцев, и крестьяне сражались против этого так яростно, как наемники и призывники капиталистических армий не могли и не хотели сражаться за.
Это помогло Ленину. Но война против контрреволюционеров, окончившись победой крестян-собственников, оказалось победной именно для частной собственности, и поэтому уступила место еще более яростному конфликту между фанатично коммунистическим правительством и яростно индивидуалистским крестьянином-собственником, которых хотел производить на своем уделе для себя и не понимал, что это такое – работать совместно с другими, да еще делиться с городскими пролетариями, которые казались ему какими-то нелюдями-пришельцами. Предоставленные самим себе, мужики воспроизвели бы капиталистическую цивилизацию в самом американском, самом худшем виде, через десять лет. Поэтому самым неотложным делом победившего коммунистического правительства было – уничтожение мужика. А меж тем мужик, все еще та самая гусыня, кладущая золотые яйца, не мог быть уничтожен на корню – уничтожилась бы вся русская нация вообще. Выход из тупика был очевиден, но дорог и трудоемок. Любой класс можно уничтожить не насилием, но воспитанием его детей в духе, отличном от воспитания родителей. В случае русского крестьянства отец живет в паршивом зверинце, и нет у него хозяина, и добывает он средства к существованию примитивными методами на том клочке земли, на котором трактору было бы не повернутся, даже если бы он его имел, но который принадлежит ему лично. Книга его – Книга Природы, содержащая премудрости, доступные тем, кто может ее прочесть. Но сам он не может ее прочесть, и по всем культурным признакам он невежда, хоть и знает вещи, о которых профессура университета даже не догадывается. Он брутален из-за чрезмерной физической работы. Его свобода от контроля цивилизации оставляет его беззащитным от тирании Природы – настолько, что его детям хорошо видно, что хорошо организованные люди на соседней коллективной ферме, где тысячи акров обрабатываются дюжинами тракторов, и никто не может поставить ногу на один из акров или положить руку на один из тракторов и сказать «Это мое, что хочу, то с этим и делаю» – лучше накормлены, лучше устроены в жилищном плане, больше отдыхают, и гораздо более свободны, чем их отец.
Конец цитаты.
Назад: Глава восьмая. Уилсон, Симбирск и новый мир
Дальше: Глава десятая. Начало странного десятилетия

