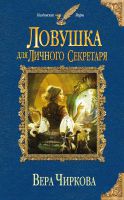Глава 5
Красное Солнышко
Ночевать я остался в лагере — в своем шатре. Уехать отсюда в город и снова оставить воинов было бы очень плохим окончанием так удачно проведенного дела. Сейчас, после триумфа единения князя и дружины, мне следовало особенно заботиться о том, чтобы доверие ко мне укреплялось. Пусть князь дурит и хочет принять крещение, но все же все войско теперь знает: Владимир щедрый властитель, он по-прежнему часть своей дружины и ему по прежнему можно доверять.
Любаву я отправил обратно в Херсонес вместе с епископом, а сам еще долго сидел у костра вместе с ближними дружинниками. Мы пели военные песни и пили вино из бочки, которую прикатили из разграбленной деревни неподалеку.
А уже ночью, стоило мне уединиться в шатре, ко мне пришел Добрыня Новгородский. Мы мало общались с ним в этом походе, да и вообще этот богатырь с окладистой бородой был угрюмым немногословным человеком.
Угрюмость его можно было понять: после того, что случилось с его единственным сыном Всеславом, любой на его месте замкнулся бы на всю оставшуюся жизнь. Странно было как раз другое — как человек, переживший такое горе, еще находит в себе силы для активной жизни.
Добрыня держался молодцом. Несмотря на очень солидный для этой эпохи возраст — тридцать семь лет, новгородский посадник всегда шел в бой, крутя над головой тяжелый меч впереди своих воинов, и служил им примером отваги.
Вот только поговорить с ним редко кому удавалось. Иногда казалось, что Добрыня для того и лезет вперед в битвах, что хочет поскорее погибнуть в сражении…
А теперь он вдруг сам пришел ко мне в шатер. Мы сели напротив друг друга: Добрыня на чурбан, недавно принесенный для престарелого Анастата, а я — на сундук с парадной княжеской одеждой.
После долгого сидения у костра и обильных возлияний мы оба устали, и мне оставалось лишь строить догадки о причине неожиданного визита новгородца.
— Что заставляет тебя принять крещение? — прямо спросил Добрыня, уставившись на меня тяжелым взглядом. — Ты что, внезапно уверовал? Тебе было видение?
Он явно желал откровенного разговора. Ну что ж…
Алексей по моему знаку налил нам в кубки еще вина, принесенного в кувшине из общей бочки, и мы снова отпили.
— Мне не было видения, — сказал я, решив быть откровенным. Ведь Добрыня был одним из двух людей, кто знал о том, кто я такой и как с легкой руки Блуда сделался князем…
— Дело в том, что я всегда был христианином, — пояснил я. — Меня крестили еще в младенчестве, и я никогда не был язычником. Конечно, это не моя заслуга, но так уж получилось. Так что принять крещение сейчас меня заставляют обстоятельства. Нужно, чтобы мое крещение было публичным, чтобы его увидели все. Не могу же я объяснить, что пришел из далекого будущего и что уже христианин.
Добрыня заерзал на чурбане и снова отпил вина. Как бы он не напился, хотя при его комплекции это грозит ему еще не скоро…
— А зачем тебе публичность? — спросил он. — Зачем, чтобы об этом знали все? Разве вера — это не между человеком и Богом?
Я кивнул, хотя, несмотря на опьянение, про себя отметил довольно необычную для язычника идею.
— Я собираюсь стать не просто христианином, — сказал я. — А христианским князем. Главой христианского государства.
— Какого государства? — не понял меня Добрыня. — Ты собираешься завоевать Царьград?
Он засмеялся, но тотчас замолчал, едва увидел, что я совершенно серьезен.
— Русь станет христианской страной, — ответил я. — Можешь мне не верить, Добрыня, но именно так и будет. В том будущем, из которого я пришел сюда, Русь была крещена и сделалась одним из крупнейших христианских царств мира.
— Такой же, как Византия? — спросил посадник, и глаза его вдруг загорелись.
— Что? — переспросил я. — А, Византия… От Византии потом остались рожки да ножки. За предстоящую тысячу лет много чего изменится. Впрочем, что об этом говорить?
Я взглянул на Добрыню. Он сидел, повесив голову, в расслабленной позе. По нему невозможно было судить о том, какое впечатление произвели мои слова.
— Я намерен крестить всю Русь, — закончил я. — И в первую очередь своих ближайших соратников. От этого очень многое зависит. Ты же знаешь, что простые люди всегда смотрят на знатных.
Помолчав, я спросил напрямик:
— Ты согласен креститься, Добрыня?
Впервые за все время нашего знакомства новгородский посадник улыбнулся.
— Нет, — сказал он. — Не согласен. Совсем не согласен. Никак креститься не могу.
Он улыбнулся снова, показав крепкие белые зубы — такие тут большая редкость.
— Потому что ты не один такой, — пояснил он. — Я тоже христианин. Вот Алексей может подтвердить. — Он кивнул на молча стоявшего чуть поодаль оруженосца. — Когда отец Иоанн крестил меня, Алеша был за дьячка, он читал псалмы. Правда, Алеша?
— Правда, брат Никита.
— Никита? — переспросил я, окончательно сбитый с толку. Какие еще неожиданности ожидают меня? Какие новые признания? Как много я не знал о своем ближайшем окружении!
— Меня крестили Никитой, — подтвердил Добрыня. — Отец Иоанн объяснил, что это в честь святого Никиты Исповедника. Он стал угоден Богу благодаря своей твердости в вере.
Добрыню крестили несколько лет назад во время его очередного приезда в Киев. Именно тогда, после знакомства с отцом Иоанном, новгородский посадник принял решение изменить свою жизнь. Ему казалось, что скоро вся Русь станет христианской.
Об этом знал и боярин Блуд, который, если можно так выразиться, благословил Добрыню на крещение.
— Я бы и сам крестился, — сказал тогда Блуд. — Но мне, наверное, уже поздно. Всю жизнь прожил язычником и не верю я ни в каких богов. Но знаю, что именно в крещении — будущее Руси. Без этого не будет дружбы с Византией, да и с другими соседями не будет. Нужно примкнуть к какому-то лагерю. На юг от нас и на восток — мусульмане набирают силу. На западе — христианство. Кто наш естественный союзник? Конечно, христиане, а язычниками оставаться негоже. Еще княгиня Ольга это понимала и крестилась. Но тогда время еще не пришло. Не пришло оно и сейчас, но скоро придет.
— И много на Руси таких же, как ты, тайных христиан? — поинтересовался я.
— Немало, — улыбнулся Добрыня. — И все они ждут, когда же придет час, что можно станет свободно исповедовать свою веру. Вижу теперь, что этот час близок. А о том, что ты благоволишь к христианству, я давно заметил: когда узнал, что ты Алексея к себе оруженосцем взял.
— Как же мне теперь называть тебя, посадник новгородский? — спросил я, уже заранее догадываясь об ответе. Кто же не читал в детстве русские былины? Но и подсказывать ответ я не хотел…
— От отеческого имени отказываться тоже нехорошо, — рассудительно заметил Добрыня. — Да и знают меня все под этим именем. Скажут: другое имя взял — другим человеком стал. Поэтому, думаю, надо оба имени беречь одинаково.
— Значит, Добрыня Никитич? — уточнил я и облегченно засмеялся. Ну вот. Все сходится.
— Я потому смеюсь, — пояснил я удивленному моим смехом Добрыне, — что в далеком будущем, откуда я пришел, о тебе почти ничего не будет известно. Никакая память долго не хранится. Но имя твое будут помнить всегда. Добрыня Никитич — богатырь русской земли.
— Новгородской земли, — поправил меня посадник, но я отмахнулся.
— Все это скоро уйдет, — сказал я. — Можешь мне поверить. Не пройдет и несколько столетий, и не станет полян, древлян, кривичей, радимичей — все будут называться русскими.
— Но мы же славяне, а не русы, — пожал плечами Добрыня. Похоже было, что сказанное мной показалось ему довольно несбыточным, и он не слишком поверил услышанному.
— Вот что станет с русами, я не знаю, — ответил я. — Знаю только, что никакого следа от них не останется. Только название, которое перейдет к славянам, ну и еще несколько имен городов — Старая Руса, например. Город с таким названием останется. Но в нем будут жить славяне, а про русов никто не вспомнит.
— Если тебе понадобится помощь, — сказал вдруг Добрыня Никитич, — только скажи. Креститься, а потом крестить всю Русь — дело нешуточное и опасное. Но знай, князь Владимир, что я всегда готов прийти тебе на помощь.
Я поблагодарил храброго посадника и успокаивающе сказал, что в помощи пока не нуждаюсь. Ох, знать бы мне тогда, как сильно я ошибался…
— А вот теперь пора, — сказал отец. — Теперь самое время тебе остеречься.
Пронзительно-яркие звезды сверкали на черном космическом небе, и облако переливающихся протуберанцев клубилось за спиной отца. Да и отец ли это был? Конечно, нет. Насколько я мог заметить во сне, отец даже и не слишком был похож на себя настоящего, каким я его знал при жизни. Даже совсем не похож. Может быть, Нечто, являвшееся мне в образе отца, устало притворяться?
Может быть, перестало считать нужным?
И во сне я уже больше не верил тому, что передо мной отец. Но продолжал играть в предложенную мне игру.
— Чего остеречься, папа? — спросил я.
— Смерти, сынок, — ответило Нечто в офицерском мундире, посверкивая золотыми погонами. — Чего же еще тебе бояться? Смерть — это то, от чего тебя не могу спасти даже я. Смерть — это когда человек перестает существовать, покидает материальный мир. Это навсегда, и с этим уж ничего не поделаешь.
— За то время, что я здесь, папа, — сказал я, — смерть была рядом со мной много раз. И всегда я как-то избегал ее. Или мне везло?
— Тебе везло, — серьезно, без улыбки подтвердило Существо с лицом моего отца. — Если бы тебе не повезло и ты погиб бы, то что ж… Пришлось бы посылать сюда другого. Если бы удалось найти, конечно. Думаю, что удалось бы. Всегда находится подходящий человек.
Отец помолчал, потом сказал неохотно:
— Всего невозможно предусмотреть, сынок. Теперь настал момент, когда смерть стоит вплотную к тебе. Сделать я тут ничего не могу, есть некоторые вещи… Одним словом — берегись. Берегись изо всех сил, потому что если ты погибнешь, то очень многое пойдет насмарку. Не все, но многое. По крайней мере, история твоей страны уж точно станет неузнаваемой.
— Чего мне надо опасаться? — спросил я, заранее зная, что ответа я не получу. Но отчего же не попытаться?
— Я же сказал — смерти, сынок. — Нечто улыбнулось улыбкой моего отца. — Тебе предстоит крестить Русь и стать Владимиром Святым. Надеюсь, ты это уже понял. Так вот, на свете есть не одни мы. Есть и другие. Других такая перспектива совсем не устраивает.
Отец исчез в клубящемся облаке, и протуберанцы заискрились по-новому. Черный космос вглядывался в меня.
— Проснись, князь, — тряс меня за плечо Алеша Попович. — Проснись, пришел воевода.
Потрясенный своим сном и еще не успевший прийти в себя, я открыл глаза. Стояла ночь, пламя светильника еле освещало шатер. На пороге действительно высилась крупная фигура Свенельда.
Почему ночью? Что это за неожиданный визит?
Я вспомнил о том, что все государственные перевороты совершаются по ночам…
А сейчас самое время для переворота. Днем я объявил о том, что собираюсь принять крещение и сделать Русь христианской страной. Что ж, как раз ночью после этого следовало ждать, что меня придушат в собственном шатре…
— Вставай, князь, — произнес Свенельд, надвигаясь на меня. — Караульные прибежали. Говорят, что к тебе посол от императора.
— Какого императора? — спросонья, да еще после выпитого вечером греческого вина я плохо приходил в себя.
— Как какого? Твоего будущего шурина, Василия Второго, — усмехнулся Свенельд. — Византийского императора. Правда, я не знал прежде, что Василий Второй — брат ключницы князя Рогвольда Полоцкого. Любава мне о таком высоком родстве никогда не рассказывала…
Свенельд явно издевался над моей выдумкой, но не было времени спорить.
— А почему посол явился ночью? — спросил я ошалело. — И вообще — откуда он взялся?
Свенельд только молча пожал плечами. Откуда он мог знать?
— Посол со свитой и с дарами от императора Василия, — повторил он то, что сказали ему караульные.
— И где этот посол?
— Шел сюда, — заметил воевода. — Думаю, уже стоит перед твоим шатром. Наверное, тебе следует поторопиться, великий князь.
Снаружи и вправду слышались звуки — там сходились воины, и, видимо, уже ожидал меня посол.
Торопливо одеваясь и неловко прицепляя меч на перевязь слева, я все время чувствовал тревогу.
Втроем со Свенельдом и Алексеем мы вышли из шатра, оказавшись лицом к лицу с толпой людей.
Костры в лагере уже давно прогорели, и местность освещалась лишь несколькими факелами, которые держали воины. В этом полумраке я разглядел, что перед шатром собралось около сотни дружинников — тех, которым не спалось в эту ночь. В первом ряду я увидел громадную фигуру Овтая Муромца и длинную — Аскольда Черниговского. Видимо, эти двое тоже еще не ложились спать.
В некотором отдалении стояли караульные, на чьи посты и вышел загадочный посол императора.
А вот сам посол и с ним еще четыре человека.
Посол стоял в середине, а четверо сопровождавших его — по четырем сторонам, образуя квадрат.
Все четверо были одеты примерно одинаково, только у посла костюм был более богато украшен.
Одежда представляла собой длинный, ниже колен шелковый халат, под которым были надеты шаровары, зауженные книзу, так что из-под них торчали загнутые кверху носки мягких кожаных туфель. А на головах…
О, вот как раз на головные уборы я и обратил основное внимание. Можно сказать, что они меня потрясли. Это были фески. Да-да, круглые, как перевернутые детские ведерки, а сбоку кисточка.
В таких фесках старинные карикатуристы изображали турок и греков, подвергшихся турецкому влиянию. Особенно трогательной деталью является, конечно же, кисточка.
Да, но феска — это турецкий головной убор, а турки появились в этих краях четыреста лет спустя. Откуда тут взялись турки? Конечно, я не историк и тем более не специалист по истории костюма, но мне стало совершенно ясно, что византийские греки одеваются иначе.
Я же видел, например, делегацию херсонесских греков и вполне мог судить об их внешнем виде.
Так вот: передо мной стоял византийский посол, абсолютно непохожий на византийца. А четверо сопровождавших его людей были вообще не слишком похожи на людей…
Почему? В тот момент я не смог бы объяснить своего чувства. Слишком прямо стоят, слишком ровно держат головы, слишком спокойно держатся. Будь ты посол или помощник посла, но если ты человек, то поневоле занервничаешь, стоя посреди толпы наших не вполне протрезвевших воинов самого разного, но по большей части устрашающего обличья.
Достаточно взглянуть в бледное лицо Аскольда Кровавой Секиры, и у любого испортится настроение.
Но эти, казалось, ничего не боятся и вообще не нервничают. Похоже, что у них просто не было нервов. И вообще, все четверо были слишком похожи друг на друга.
Мы стояли в неверном свете факелов, их колеблющийся от ветра свет выхватывал из темноты то одно лицо, то другое.
Я лихорадочно пытался сообразить, что следует делать, и ничего не приходило в голову.
— Кто ты и что тебе нужно? — наконец спросил я, обращаясь к послу — высокому молодому человеку с иссиня-черными волосами и короткой бородкой. Его пронзительные глаза глядели на меня настолько бесстрастно, что даже мурашки прошли по телу. Или мурашки пошли от того, что я, разгоряченный вином и сном, вышел на ночную приморскую прохладу?
— Меня прислал его величество император Василий, — проговорил посол. — Я привез от него важное сообщение, которое должен отдать лично великому князю.
Он произнес это ровно, без тени волнения, лицо его оставалось спокойным. А у меня все сильнее нарастало чувство внутреннего ужаса. Не об этой ли ситуации мне только что было сообщено во сне?
Смерть стоит вплотную к тебе…
Сейчас я приглашу посла в шатер, и там он передаст мне личное послание императора Византии.
Да?
А как этот посол вообще появился здесь? Сейчас ночь, а ночью корабли по морю не плавают. В моем времени — плавают, а в здешнем десятом веке — отнюдь нет. Да и вообще — к чему такая спешка? Даже если корабль все же приплыл ночью, то отчего же нельзя было подождать до утра?
И эти сопровождающие посла лица — очень уж мало в них человеческого. Полно, да люди ли они? Не больше ли они похожи на истуканов? На кукол?
— У меня нет секретов от соратников, — сказал я. — Говори прямо здесь. Что передает нам император Василий?
И только в это мгновение я вдруг понял: это было никакое не посольство. И никакие переговоры они вести не собирались. Эти четверо прибыли сюда совсем не для разговоров.
Посол стоит посередине, четверо его людей — по четыре стороны. Да это же группа захвата!
И, видимо, очень мощная группа, потому что они вчетвером явились в лагерь, где собрано полторы тысячи пьяных головорезов. Они не боятся, действуют почти открыто. Почему? Значит, они ощущают свою силу…
— Рубите их! — что есть мочи закричал я, делая прыжок в сторону. Несолидно, конечно, для князя киевского, да уж что поделаешь. Либо будешь смешным, либо мертвым.
— Рубите, это враги! — кричал я, а сам уже видел, как наши воины выхватывают из перевязей оружие.
Из этой четверки никто не пошевелился. Только посол внезапно очень широко открыл рот и лишь повернул голову в мою сторону. Изо рта у посла вырвалось пламя. Да нет, не пламя, а тонкая огненная линия, черта, полоска.
Лазерный луч! Лазер, встроенный в рот человека.
Лазерный луч прошел рядом со мной и ударил в шатер. Подпорки рухнули сразу, за ними повалилась на землю разрезанная ткань. В это время я уже катился по земле. Кажется, я дико визжал от ужаса, хотя неприятно об этом вспоминать, а тем более признаваться. Но визжал я, как зарезанный поросенок. Ведь в отличие от своих соратников я очень хорошо представлял себе опасность лазера…
Наши дружинники бросились на пришельцев сразу со всех сторон. Но добраться до посла было не так-то просто. Он оставался стоять на месте, вертя в стороны головой с широко разинутым ртом, из которого беспощадно бил тонкий, как игла, красный луч лазера. Слышались крики раненых и убитых. В груди Драгомира вдруг появилась черная точка, а затем от этой точки в сторону пошла косая линия, и в мгновение ока тело мощного богатыря-дружинника развалилось на две части…
У кого-то отрезало руку, у кого-то — ногу. Четверо сопровождавших «посла» не допускали никого приблизиться к нему, и делали они это виртуозно. Никаким оружием они не пользовались, а действовали только частями тела. Со стороны это напоминало некий диковинный танец на одном месте, когда человек подпрыгивает то на одной ноге, то на другой, машет руками, нагибается и распрямляется вновь. Воины бросались на них с мечами и секирами, но очень малое количество ударов попадало в цель — так увертливы были эти четверо.
А те удары, которые все же попадали по назначению, действовали совсем не так, как действовали бы на людей. Тела этих четверых пришельцев пружинили: мечи и топоры отскакивали от их плоти.
Неприступная группа стояла посреди нашего лагеря, а вокруг нее в крови и воплях высилась груда поверженных наших дружинников. Не все были убиты — многие шевелились, пытались встать на истекающие кровью обрубки.
Мощность лазера была таковой, что он резал даже стальные мечи. Вот Свенельд поднял над головой меч, и как раз луч прошел по клинку. В руках у воеводы осталась лишь рукоятка да двадцать сантиметров стали, аккуратно срезанной страшным оружием. Можно было только догадываться, что стало бы со мной, пригласи я «посла» с визитом к себе в шатер. Он без всяких помех нарезал бы меня такими же тонкими ломтиками, как салями в магазине…
Я сидел на земле, и «посол» не мог видеть меня. Луч его лазера шарил из стороны в сторону, раня и убивая все, что встречалось на его пути.
В этот момент я заметил изменения в бою вокруг четверых спутников. Если удар меча или топора достигал цели и касался тела пришельца, то нанесший удар воин мгновенно падал замертво.
«Ага, они включили электрошокеры, — понял я. — Видимо, все пошло не так, как задумано, и они стали нервничать».
Видимо, электрошокерами были сами тела, что лишний раз подтверждало мою догадку о нечеловеческом происхождении наших незваных гостей.
Но сам «посол» явно был человеком — недаром его так ревностно охраняли. Лазер, наверное, можно встроить в рот, хотя я о такой технологии не слышал.
В этот момент «посол» заметил меня. Он сделал шаг в мою сторону, и четверка охраняющих переместилась следом за ним. Еще шаг… Еще…
Я отползал назад, не зная, что предпринять. Вскочить и убежать? Но это еще опаснее: бегущий куда более уязвим, чем тот, кто жмется к земле. Никто не мог меня защитить, и некуда было спрятаться — от лазерного луча не скроешься. Разве что в бункере, но где же тут бункер?
«Посол» решил догнать меня во что бы то ни стало, и ускорил шаг. Вот тут у них вышла промашка…
Один из четверки чуть отстал, замешкался. В этот миг Добрыня Никитич, появившийся откуда ни возьмись сбоку, вскинул над головой палицу с металлическим набалдашником и ударил пришельца сверху вниз прямо по голове. Про Добрыню ходили слухи, что он может поднять корову и пронести ее… Удар вышел такой силы, что череп врага расплющился.
Руки и ноги продолжали двигаться, словно в дьявольском танце, но тело потеряло ориентацию в пространстве. Оно продолжало уклоняться от ударов, которых не видело, и само наносило удары по воздуху…
Нанеся свой сокрушительный удар, Добрыня выронил палицу и пошатнулся. Он продолжал стоять несколько секунд с выпученными от напряжения глазами, а затем осел на землю. Удар электрическим током поразил его, хотя и не так сильно, как других наших воинов. Все же комплекция имеет значение.
На упавшего пришельца тут же яростно набросились воины. Они били снова и снова по расплющенной голове, тыкали мечами в упругое туловище. Подскочивший Овтай Муромец, не уступавший по комплекции Добрыне, размахнулся и нанес удар мечом по бьющей по воздуху руке поверженного. Инязор не пожалел сил — ударил изо всей своей мочи.
Рука отлетела в сторону и уже больше не шевелилась. Ага, так этих пришельцев все-таки можно одолеть!
Луч лазера продолжал исторгаться изо рта «посла», сея при этом смерть и ранения. Вопли разрезанных воинов слышались каждый миг. Но тыл «посла» на короткое время обнажился, после того как Добрыня разделался с одним из четверки, а Овтай довершил доброе дело.
В образовавшуюся нишу проник Аскольд со свое знаменитой секирой. Он бросился вперед очертя голову и, конечно же, меньше всего думая о смерти. Точнее, о смерти Аскольд Кровавая Секира думал постоянно, и, видимо, с детства, но только не о своей. Смерти черниговский князь не боялся — он сам был ее носителем.
«Посол» заметил нападение на себя и резко обернулся. Прямой красный луч ударил в Аскольда. Он прошел от плеча вниз и отсек левую руку. Это был разрез, как в компьютерной игре на экране — тонкая линия прошила тело, а затем плоть с чуть обугленными краями попросту отвалилась.
«Травма, несовместимая с жизнью, — машинально отметил я про себя. — Слишком велика зона поражения. Кровотечение не остановить. Против разрезания человека ломтями медицина бессильна».
Но слишком поздно для «посла», который со своей реакцией опоздал на долю секунды. Как ни крути, а он все же был человеком…
В момент удара лазера Аскольд находился как бы в стремительном броске. Его долговязое тело летело в направлении противника, а секира в его правой руке была занесена.
Ах, эта знаменитая Аскольдова секира! Ей следовало бы поставить памятник для будущих поколений! Как знать, не повернулась бы история Руси совсем по-другому, если бы «посол» исполнил свою миссию.
Черниговский князь был фактически уже убит лазером, когда его взлетевшая секира отсекла напрочь голову врага.
«Посол» замер на месте и простоял так несколько секунд. Точнее, простояло его тело, потому что отлетевшая голова с продолжающим работать лазером отлетела в сторону. Она покатилась по земле, а красный луч, по-прежнему бивший из разинутого рта, все еще косил всех, кто попадался на его пути.
Тело стояло на ногах. Из рассеченной шеи хлестала кровь — красная и вполне человеческая. Несколько струй били фонтанчиками из артерий, заливали грудь…
Затем ноги подкосились и тело упало.
В этот момент битва закончилась. Оставшиеся трое пришельцев прекратили свои кривляния и бросились бежать. Толпа воинов с ревом кинулась за ними следом. Разъяренные дружинники бежали изо всех сил, потрясая мечами и топорами, но догнать не смогли. Пришельцы бежали так быстро, вскидывая гибкие длинные ноги, что человеку не стоило и думать о том, чтобы развить такую скорость.
Голова лежала лицом кверху, и лазер теперь бил прямо в черное ночное небо. Воины, уже успевшие осознать опасность лазерного луча, толпились вокруг, не решаясь приблизиться. Хотя очень быстро наиболее сообразительные поняли, что главное — не попасться на пути луча. Тогда голову пинком ноги перевернули набок, и брызжущий слюной воевода Свенельд растоптал ее своими сапогами. Немного жаль, потому что любопытно было бы на досуге рассмотреть тот микроскопический, но столь разрушительный лазер. Впрочем, я никогда особо не увлекался техническими диковинками…
До утра уже никто в лагере не ложился спать. После битвы мы не досчитались четырнадцати дружинников, которые оказались убиты. Еще тридцать шесть человек были ранены, и раны их по больше части были плохие — отсеченные руки, ноги…
Я осмотрел тело мертвого «посла».
Сначала перевернул его на спину, потом постоял над ним, потыкал в бок носком сапога.
«Вот как, братец, — мысленно сказал я, обращаясь к убитому. — Кажется, ты собирался прикончить меня. Нарезать тонкими ломтиками, да? Ну и как — понравилось тебе это приключение?»
Ясно было, что передо мной — такой же посланник во времени, как я сам. Только, судя по всему, направили его сюда совсем не те силы, которые отрядили меня.
Конкурирующая организация, так сказать. А те, которые послали меня, видно, никак этому воспрепятствовать не смогли. Правда, успели предупредить о грядущей опасности. Что ж, и на том спасибо.
Убитого Аскольда унесли черниговские дружинники. Делали они это с благоговением — ведь Аскольд считался великим воином. Да что там считался, он и был им. Бесстрашным, не знающим пощады, ужасающим. А каким еще должен быть великий воин? Гуманным и добрым? Но это скорее качества учителя начальной школы…
Обследованием тела «посла» мы занимались с Алексеем — он помогал мне ворочать эту мертвую тушу. Разрезав одежду, мы обнажили тело. Потом обследовали куски наряда. Ничего, только на груди — татуировка, представляющая собой тонкую арабскую вязь — справа налево.
Татуировка была выполнена столь искусно, что казалась, будто человек рожден с нею. Непонятно, каким образом это было сделано: надпись словно находилась внутри кожи.
— Ты не читаешь по-арабски? — на всякий случай спросил я Алешу, но он даже не понял меня. Кто такие арабы?
Скажем прямо, в арабском языке я тоже не силен, мягко выражаясь. С этим пришлось смириться и обследовать то, что осталось от головы.
Лазер мы нашли, но выглядел он совсем непонятно. Нечто было вживлено в нёбо, но материал, из которого был сделан лазер, остался для меня непонятным. Это не был металл, и даже не была пластмасса. Пожалуй, даже неправильно употреблять слово «вживлен». Создавалось впечатление, что просто некая часть нёба человека превратилась в лазерное устройство с микроскопическими деталями.
Мне вспомнилось то отрывочное и невнятное, что приходилось слышать о нанотехнологиях. Может быть, это именно они?
Я вздохнул. Ну, они это или не они, а что-то другое, но одно несомненно: судя по татуировке и по этому нёбу-лазеру, пришелец во времени явился из того будущего, которого я не знал. Может быть, он из двадцать второго века или из двадцать третьего.
А что тут удивляться? Ведь мне уже встретился Тюштя из тысяча девятьсот четвертого года и Анастат из конца девятнадцатого века. Для них я был человеком из будущего. А вот этот господин с отрубленной головой — человек из будущего для меня…
Жалко, что нельзя собраться нам всем троим: мне, Тюште и Анастату. Устроили бы что-то вроде научно-практической конференции. Обменялись бы мыслями, идеями о том, что с нами всеми стряслось, и о причинах этого.
Закончив с «послом», мы осмотрели изрубленные топорами останки уничтоженного «плясуна». Ну, тут уж совсем не было для меня никаких неожиданностей. Этот оказался вообще не человеком, как я и думал. Внешность полностью человеческая, но иллюзия на этом и останавливалась. Вероятно, создатели этого андроида руководствовались принципом разумной достаточности. На вид это был человек, но на этом сходство заканчивалось.
Дело в том, что у андроида не было внутренностей. Вовсе никаких. Он был сделан или выращен из некоего однородного материала вроде резины, которая была пронизана миллиардами мелких прожилочек, позволявших телу двигаться. Материал был очень упругим и гибким, что делало его малоуязвимым для ударов. И уж совсем было бы глупо стрелять в этого андроида. Пули попросту прошивали бы однородную резину, не принося никакого вреда, кроме дырок.
— Искусная работа, — сказал я себе. — Чего только не напридумают эти ученые. Из какого столетия прибыли эти незваные гости, я судить не мог. Однако случай вышел поучительный — мне следовало быть осторожным. Если меня в этом мире «курирует» Нечто, у которого свои цели, то надо иметь в виду — существует еще Анти-Нечто, с совершенно противоположными целями.
Все это предстояло обдумать.
Когда наступило утро и воины разожгли костры для приготовления завтрака, в лагере только и разговоров было о том, кто и с какой доблестью сражался с ночными гостями. Как ни странно, произошедшее произвело на моих соратников куда меньшее впечатление, чем на меня.
О случившейся битве говорили охотно, но без тени удивления. Это для меня произошедшее было загадкой, невообразимой тайной, но только не для воинов десятого века. Они были людьми мифологического сознания. С детства и до старости они слышали рассказы о битвах с неведомыми драконами, ведьмами, великанами, людьми с собачьими головами…
Мир, в котором они жили, еще не был научным миром, где все объяснено, расписано и где хорошо известно, что возможно в природе, а что — нет. Они жили в мире, который включал в себя все — возможное и невозможное. Точнее, возможным тут было все!
Оборотни, привидения, злобные истуканы, изрыгающие огонь, — все это в сознании людей было так же реально, как сосед по палатке.
Никаких объяснений не требовалось. Просто понятно было, что ночью на лагерь и на князя напали злобные демоны — посланцы злых богов. Один из них метал изо рта молнии, а четверо других были почти неуязвимы для оружия. Что ж, бывает!
Зато можно было теперь до конца жизни рассказывать о том, что и ты бился с нечистой силой, и даже победил. Ну и изрубили же мы одного из них! А помнишь, как Аскольд Кровавая Секира срубил голову главному демону — тому, что с молниями? Вот было дело!
— Вас хотели убить, чтобы вы не крестились, — заметил Анастат, когда я рассказал ему о ночном визите и его последствиях. — Эта сила не желает, чтобы крещение князя киевского произошло. Вот в чем дело.
— Они могли бы тогда убить вас, — возразил я. — Это гораздо проще, чем убить князя, которого постоянно охраняют.
— Нет, это не решило бы проблему, — покачал головой епископ. — Если бы погиб я, вы могли бы принять крещение от любого другого священника. Как вы думаете, а зачем этим злобным силам не желать крещения Руси? Кто эти создания: в чем их интерес?
— Их интерес в том, чтобы Россия не стала христианской страной, — ответил я, уже успевший всячески обдумать эту проблему.
— Но, боже мой, — всплеснул руками старик. — В любом случае Русь не может долго оставаться языческой…
Я засмеялся, хотя смеяться совсем не хотелось. Николай Константинович Апачиди прибыл из конца девятнадцатого века, и поэтому еще не знал о проблемах века двадцать первого.
— Не о язычестве речь, — сказал я. — По мнению некоторых, Русь вполне могла бы стать исламской страной. Вот в чем дело. Не допустить крещения Руси — это значит толкнуть ее в объятия ислама. Некоторым бы этого очень хотелось. Одного из этих некоторых зарубили вчера мои воины…
— Значит, мы с вами присланы сюда одной силой, которая хочет сохранить известное нам течение истории, — рассудительно заметил епископ. — А существует еще другая сила. Та, которая хочет добиться изменения истории. И вчера ночью к вам явились именно посланцы второй силы. Я правильно понимаю?
Когда я кивнул, епископ Анастат просветлел лицом.
— Слава Богу, что вы уже здесь и что мы с вами встретились. Давайте же быстрее совершим ваше крещение, и угроза будет снята. Крещение состоится, и изменить этот факт станет уже невозможно.
— Ну, мне можно будет помешать потом, — заметил я. — Как вы понимаете, одного моего крещения недостаточно. Я, как частное лицо, никого не интересую. Но таинственные злые силы — враги христианства — могут помешать мне крестить Русь.
— Как?
— Меня снова можно попытаться убить, — предположил я. — И вторая попытка может выйти удачной. Почему бы нет?
Старик хитро посмотрел на меня, и улыбка тронула его сухие губы.
— Очень возможно, — проговорил он. — Но меня это уже точно не будет касаться. Знаете, что обидно? Меня притащили сюда пятьдесят лет назад, и все эти годы я прожил здесь, в этом мире. Все это время я гадал о том, что же именно предстоит мне сделать, в чем мое предназначение здесь. И теперь только выяснилось, что я всего лишь должен крестить вас, мой молодой друг. Какое разочарование… Теперь я даже обижен.
— На что обижены?
Николай Константинович вздохнул.
— Ради этого небольшого дела совершенно необязательно было вытаскивать меня из моей жизни так рано. Чего ради я торчал тут пятьдесят лет? Я только успел закончить университет, мечтал стать инженером. Знаете, я мог бы стать очень хорошим инженером. Я бы строил дороги, брал подряды, разбогател бы. Знаменитый инженер Апачиди — это звучит!
— Ну да, а потом бы вас расстреляли большевики в каком-нибудь овраге, — пробормотал я невольно.
— Кто? — встрепенулся старик. — Как вы их назвали? И за что же они убили бы меня?
— Ну, как вам объяснить, — неохотно буркнул я, сам уже недовольный тем, что слетело у меня с языка. — На вас были бы очки и форма гражданского инженера. Для большевиков этого было бы вполне достаточно, чтобы убить вас, не задумываясь.
— Какие ужасы вы говорите, — прошептал старик. — Кто бы мог подумать? Да, кстати, скажите, пожалуйста… Я тут не понял одно слово. Может быть, оно из вашей эпохи, и вы мне поясните.
— Какое слово? — удивился я.
— Мне вчера тоже снился сон, — сообщил епископ смущенно. — Ну, вы знаете, что я имею в виду. Сон с моим отцом, который говорил со мной. Конечно, это совсем не отец, я понимаю…
— Так что он вам сказал?
— За пятьдесят лет, что я был вынужден провести здесь, — торжественно сказал Анастат, — такие сны с отцом снились мне всего три раза. Первый раз — пятьдесят лет назад, когда я только очутился здесь. Мне было велено ждать. И я ждал. Да уж, милый юноша, никто не посмеет упрекнуть меня в том, что я мало ждал. Пятьдесят лет, знаете ли, — это не фунт изюму. Вся моя жизнь прошла здесь.
Второй раз сон приснился мне во время осады, когда ваши войска стояли под городом. Мне было велено помочь вам взять Херсонес — город, ставший для меня родиной. А третий сон приснился мне вчера ночью.
Мне было сказано, чтобы я крестил вас и вашу дикую ораву и что на этом мою задачу можно будет считать законченной. Что ж, очень мило. Меня даже не поблагодарили.
Нотки сутяжничества послышались в голосе старика. Он был раздражен и явно недоволен.
— А вы подайте жалобу на высочайшее имя, — посоветовал я. — К следующему сну заготовьте бумагу и вручите ее. Пусть вас наградят каким-нибудь орденом Хроноса.
— Хроноса, — пробормотал епископ. — Хроноса… Да, так вот о непонятных словах. Мне было сказано, что я могу рассчитывать на депортацию. Что это такое? В вашей эпохе есть такое слово? Я понимаю, что оно латинское, но в реальном училище мы латынь не проходили…
Я оцепенел. Потом решился поверить услышанному. И лишь потом по-настоящему заволновался.
— Депортация? — как зачарованный повторил я за стариком. — Вам так и сказали? Что возможна депортация? Это вам прямо сам папа сообщил? Вы случайно не сами придумали?
— Ах ты, господи, — раскипятился Анастат и даже хлопнул себя ладонями по коленям. — Ну сколько можно вам объяснять… Как я могу сам придумать слово, которого не знаю?
— Депортация, — медленно произнес я, подчеркивая каждое слово. — Это означает, что вас заберут из этого времени и вернут на место. Откуда взяли — туда и вернут. Вот что значит это латинское слово.
— Да, папа мне так и сказал, — подтвердил епископ. Потом до него дошло, и на лице его, изборожденном морщинами, отразилась растерянность. Он встал и нетвердыми шагами прошелся по дворику. Затем остановился возле бассейна, кинул взгляд на золотых рыбок…
— Но как же, — растерянно сказал он и развел руками. — Позвольте, но как же так?
Он замолчал и снова сел на каменную скамью рядом со мной. Анастат выглядел подавленным и даже напуганным. Иногда на лицо его набегала смутная улыбка, но брови все равно оставались насупленными, отягощенными думой о неприятном.
— Разве так можно? — снова пробормотал старик. — Я не знаю, не ожидал…
— Вы что — не хотите вернуться в свое время? — поинтересовался я. — Все-таки конец девятнадцатого века — это очень даже неплохо. Это вам не десятый, который тут на дворе. Знаете, врачи-стоматологи, железные дороги, электричество, вилки для еды и еще куча всяких приятных мелочей…
Но Анастат к тому времени уже сумел взять себя в руки и внутренне собраться.
— Нет, — отрицательно покачал он головой. — Совсем не хочу, милейший. Мне семьдесят два года, я одинокий старик. Моя жизнь прошла здесь. Заметьте — против моей воли. Моего согласия никто не спрашивал. Здесь я выжил и стал епископом Херсонеса. Это хорошее место. Имею почет и уважение властей и граждан города. У меня дом, как видите, и я получаю хорошее содержание.
Он помолчал, потом продолжил:
— А кому я буду нужен там, в моем времени? Дряхлый, никуда не годный старик с дипломом университета. Куда я пойду? Меня никто не признает из родных, у меня не будет ни дома, ни денег. Жизнь прошла здесь, а теперь меня… Депортируют, ну да. По-другому это называется — вышвырнут подальше, чтоб под ногами не путался.
Анастат казался раздавленным и агрессивным.
— Лучше в десятом веке быть епископом, чем в девятнадцатом — нищим стариком, — закончил он яростно.
Я живо представил себе все то, что говорил Анастат, и понял, что старик совершенно прав в своих претензиях. Пусть здесь десятый век, но есть дом с внутренним двориком. А в нем — бассейн с золотыми рыбками. Перед домом — необычайной красоты кусты с яркими южными цветами. На кухне — кухарка, в комнатах — служанка. Если нужно идти служить в храм — два иподьякона готовы отнести хоть на руках.
Ну и наплевать, что тут нет паровозов и электричества. Зачем они будут нищему старику без гроша в кармане, у которого нет близких людей?
Мне захотелось утешить Анастата, и я сказал:
— Слушайте, а кто вам сказал, что вас депортируют обратно именно в вашем возрасте? Вполне возможно, что вас вернут обратно в том возрасте, какой у вас был в момент перемещения сюда. А что? Это было бы только справедливо. В каком виде взяли, в таком же виде и вернули. Согласно закону о правах потребителя…
Может быть, вас вернут в тот самый момент, когда вы потеряли сознание на берегу моря. Помните, вы мне рассказывали? Ну вот, а теперь вы проснетесь на том самом берегу и будете таким же молодым, каким были тогда. Разве не здорово? У вас получится прожить как бы две жизни. Одну вы прожили здесь, в Херсонесе десятого века, а вторая вам еще только предстоит.
Вы станете инженером, как собирались, и сделаете карьеру. У вас будет семья и дети, а на счету — кругленькая сумма. Все, как у людей.
Вероятно, мои слова прозвучали убедительно. Или всякий человек хочет услышать слова надежды и радостно верит им?
Анастат улыбнулся, в глазах засверкали огоньки давно прошедшей молодости.
— Вы действительно так думаете? — чуть запинаясь, спросил он. — Я могу вернуться обратно молодым? И вторично прожить жизнь?
— Только я прошу вас не забыть, — веско сказал я. — Умоляю вас, милый Николай Константинович! Если с вами такое случится, чего я вам, да и себе очень желаю, то не делайте глупости. Доживите до тысяча девятьсот шестнадцатого года, а потом быстро сажайте семью на пароход и дуйте куда-нибудь подальше от нашей любимой родины. Вспомните мои слова, не доведите себя до беды…
— Ну-у, — блаженно прикрыл глаза епископ. — Это еще когда будет, дожить надо. Тысяча девятьсот шестнадцатый — это не скоро. А вот молодость, перспективы…
— И непременно разберитесь с фимозом. Уверяю вас, что это несложная операция, даже в ваше время. Сделайте ее, и мир засверкает для вас новыми красками.
Я оставил старика предаваться приятным мечтам, а сам ушел в комнату к Любаве и лег на кровать. Нужно было все обдумать. Неужели действительно есть надежда вернуться в свое время? В милый сердцу двадцать первый век? Вдруг и мне, как Анастату, однажды во сне отец скажет — все, ты выполнил свою миссию и можешь быть депортирован обратно? Наверное, так и будет. Правда, я не знаю, когда именно.
С Анастатом понятно — его роль была в том, чтобы сдать мне город и крестить меня. В дальнейшем у него нет роли в истории. А вот как быть с князем Владимиром? В чем моя роль: только крестить Русь, и на этом — все? Или я должен буду довести дело до конца? А что значит — до конца? Может быть, меня, как и престарелого епископа, собираются держать тут до глубокой старости?
Этого я не знал. И спросить не у кого. Но подумать было о чем…
Кафедральный собор Херсонеса был убран цветами. Гирлянды цветов украшали каждую икону перед алтарем. Цветы также были развешаны красиво сплетенными венками на побеленных стенах храма.
От этого все здесь казалось по-особенному праздничным. Да ведь и причина была: крещение князя киевского Владимира и его ближайших сподвижников. Были ли в истории херсонесского кафедрального собора события более значительные?
Перед храмом на площади волновалась толпа местных жителей. Им было чему удивляться и радоваться. Никто здесь не ожидал такого неожиданного поворота событий.
Грозная киевская рать осадила город, потом взяла его. Впору было ожидать грабежей и гибели большей части населения. И что же? Вместо этого сам киевский князь захотел принять святое крещение, сделаться христианином. Разве можно было ожидать такого от извечного врага Византийской империи?
Ведь если Русь станет христианской страной, то прекратятся набеги на греческие города. Русь станет союзной державой, мощным и надежным соседом на севере. Могли ли жители Херсонеса мечтать о таком?
Но вот это происходило у них на глазах.
Крещение пришлось отложить на два дня. Накануне в нашем лагере прошла большая тризна по погибшим в ночном бою с пришельцами из времени. Пылал огромный погребальный костер, куда положили всех павших дружинников, а на самую высокую точку — Аскольда Кровавую Секиру в нарядном облачении. Все видели, что именно князь черниговский Аскольд ценой собственной жизни убил главного из нападавших демонов — чудовище в человеческом обличье, дышащее смертоносным огнем. Об этом подвиге потом станут слагать легенды, рассказывать их у походного костра и детям дома, чтобы те учились мужеству на примере отважного Аскольда…
Когда костер догорел, состоялась тризна. Конечно, я был на ней главным действующим лицом, но про себя уже понимал, что это — последняя тризна, в которой участвует киевский князь. Тем не менее крещение я все же отложил еще на день, чтобы как-то разнести по времени эти два исключающих друг друга события…
Вместе со мной пошли принимать крещение многие ближние дружинники. Но далеко не все. Например, все русы наотрез отказались креститься. Воевода Свенельд, старший из ближних дружинников Фрюлинг и все остальные воины-русы даже не приблизились к христианскому храму. Они ничего не сказали о том, что думают о моем поступке, но в глазах их я читал возмущение и разочарование.
Добрыня Никитич во всеуслышание заявил о том, что давно крещен и не нуждается в повторном таинстве. Так же поступил и Алексей — он вообще был сыном священника.
Зато неожиданно желание принять крещение высказал инязор Овтай Муромский. Вот уж от кого я не ожидал!
— Хочу, чтобы мой народ был всегда вместе со славянами, — объяснил инязор Овтай. — И вижу, что киевская держава станет поклоняться Христу. А раз так, то и муромский народ пусть будет христианским.
— Но тогда тебе придется расстаться с Текшонем, — сказал Добрыня Никитич. — Конечно, я понимаю, что ты будешь удивлен, потому что это совершенно противоречит всем прежним обычаям, особенно воинским, но христианство очень не одобряет связь между мужчинами. Знаешь, когда два воина ложатся в одну постель, то в христианстве это считается нехорошо.
— Текшонь умер вчера от раны, — сказал Овтай и помрачнел. — В ночном бою он стоял рядом со мной, и огонь изо рта у проклятого демона поразил его. Текшонь очень мучился, его было не спасти, и к утру мне пришлось его убить. Так что я исполнил свой долг перед ним.
Сначала принять святое крещение должен был я, а сразу за мной — Овтай.
Епископ Анастат встретил нас на пороге храма, и уже вместе с ним, рука об руку, мы вступили в кафедральный собор. Здесь царила исключительно торжественная атмосфера. Кроме богатого убранства цветами, все золотые и серебряные предметы были натерты до блеска. Сверху при нашем появлении грянул хор кастратов, славящий Господа.
Как объяснил мне загодя Анастат, херсонесский храм пользовался славой по всей империи, потому что имел хор кастратов не хуже, чем в столице — Константинополе. Высокое качество хора достигалось благодаря целенаправленной селекции. Из захваченных в плен рабов отбирали юных мальчиков и, кастрировав, воспитывали из них певцов. Ангельское звучание десятков голосов кастратов разливалось по всему пространству собора. Голоса звенели, переливались и звучностью и нежностью превосходили пение птиц небесных!
— Так поют ангелы! — не удержавшись, воскликнул епископ, подняв кверху палец. — Вы слышите райскую музыку небесных сфер!
Под завораживающе-нежное пение мы приблизились к баптистерию, расположенному в центре храма. Это было круглое мраморное сооружение с высокими бортами, чуть углубленное в пол. Диаметром метра два и такой же глубины, баптистерий был наполнен водой так, чтобы вставший туда человек ушел в воду по грудь.
Людей в храме было не слишком много. Местных жителей сюда не пустили, кроме самых уважаемых людей города. Присутствовал весь херсонесский клир, как обычно бывает при служении правящего епископа. Остальными были мы: крещаемые и их товарищи, пришедшие посмотреть.
В сторонке стояла Любава-Анна с головой, покрытой покрывалом, вышитым золотом. Пару дней назад она чуть не умерла от страха, когда услышала рассказ о нападении на меня злых монстров из будущего.
— Тебе нужно быть особенно осторожным, Солнышко, — говорила она. — Тебя ведь могут и не оставить в покое. Если эти злодеи не хотят допустить крещения Руси, то у них еще есть возможность убить тебя. Можно убить тебя на пути в Киев, а можно и прямо там, до того, как ты всерьез станешь крестить народ. Ты должен очень-очень беречь себя!
— Теперь ты все время будешь рядом со мной, — отвечал я. — Так что я спокоен. Ты будешь защищать меня от всех напастей.
— Я не буду от тебя отходить, — сказала Любава. — Можно?
— Конечно, можно и нужно, — серьезно ответил я. — Ведь ты будешь моей женой. А сейчас ты — знатная греческая принцесса из Константинополя, сестра самого императора Василия Второго. Ты не забыла об этом?
— Нет, Солнышко, — засмеялась Сероглазка. — Не забыла. Вот только что мне отвечать, если спросят, каков из себя император Василий? Ведь я его никогда не видела. Вдруг он кривой на один глаз или однорукий…
— Не путай императора Василия с влюбленным в тебя Канателенем, — сказал я. — Это у бедняги Канателеня не действует рука и нет одного глаза. А у императора все на месте. Если спросят, каков он, смело отвечай, что он светел лицом, как ясное солнце, и что глаза его подобны драгоценным камням, а наряд его напоминает звездное небо вселенной…
— Ой, Солнышко, ты так красиво говоришь, — прыснула Сероглазка. — Я так не сумею.
Пока молитвенно пел хор, епископ обошел всех, пришедших совершить таинство крещения, и договорился об именах. Ведь ему предстояло дать каждому новое христианское имя.
— Владимиром я вас крестить не могу, — сказал мне Анастат. — Нет такого святого в церкви. Мы с вами знаем, что непременно будет, — он заговорщицки улыбнулся. — Будет святой Владимир, но гораздо позже…
— Поэтому буду крестить вас с наречением имени Василий. Кстати, так же зовут императора. Когда ему доложат о том, что вы приняли имя Василий, ему будет приятно.
Перейдя затем к стоявшему рядом со мной инязору Овтаю, епископ остановился и оглядел его мощную фигуру с восхищением.
— Слышал о твоих воинских подвигах, богатырь, — сказал Анастат. — Как ты громишь врагов. Нареку тебя еврейским именем Илья, что значит «сила Божья». Ты будешь защищать веру Христову и отечество от врагов.
Когда епископ перешел к другим крестящимся, мы с Овтаем сбросили с себя одежду и завернулись в белоснежные шелковые покрывала, которые почтительно подал нам один из диаконов церкви. Со всех сторон на нас смотрели глаза святых с многочисленных икон. Византийские иконы выглядят не совсем так, как я привык видеть в современной мне России. Есть свои особенности у греческой иконописи. Лики были темными, тона преобладали коричневые, бежевые или черные. Глаза у святых были как черные маслины — круглые и глубокие, а лики — худые, с четко прорисованными морщинами.
Двери в храм оставались открытыми, и поэтому было довольно светло — солнечные лучи свободно проникали в собор до самого баптистерия.
Честно сказать, я не очень внимательно слушал проповедь, которую в начале таинства произнес Анастат. Он говорил об искупительной жертве Иисуса Христа и о вечной жизни, которую Он купил у Бога для спасения каждого верующего в Него человека.
— «Ибо так возлюбил Бог мир, — прочитал епископ шестнадцатый стих третьей главы Евангелия от Иоанна, — что послал Сына Своего единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную…»
Анастат говорил проповедь на греческом языке, а мои дружинники понимали либо по-славянски, либо на финских наречиях — эрзянском, муромском, вепсском, ижорском, карельском…
Поэтому Алеша Попович переводил слова епископа на славянский, а Овтай Муромец — на свой язык, который был понятен всем остальным финнам.
Анастат много внимания уделил рассказу о грехах, среди которых важнейшие — идолослужение, поклонение иным богам, мужеложество, многоженство и прочий разврат.
Я косил глазами на стоявших вокруг баптистерия дружинников и ловил смятение в их взорах. Они переглядывались, осторожно вздыхали, крутили головами. Большинство из них были искренне поражены. Греческий епископ говорил им поразительные вещи, которых они прежде даже не могли предполагать.
Оказывается, что поклоняться Перуну и другим богам, а также Священным рощам, домовым духам и духам рек и озер — грех. Грех заниматься любовью со своим боевым товарищем. Грех иметь несколько жен и наложниц. Да как же жить-то тогда? И что это будет за невиданная жизнь?
Тем не менее никто не посмел возмутиться. Наверное, думали, что пронесет. Великий князь киевский Владимир перебесится, и все станет как прежде. Главное — не перечить, потом все как-нибудь образуется. Поиграет князь с христианством, а потом и сам забудет. Мало ли какая блажь находит на начальство?
«Нет, друзья, — думал я. — Ничего вы еще не поняли. Не образуется. И не пронесет. Русь станет христианской навсегда, навеки. И вы постепенно станете христианами. А не вы, так ваши дети. А не дети, так внуки, но только это обязательно произойдет. Потому что Руси суждено стать великой страной, а русским — великим народом, прославленным среди народов Земли. А произойти это может только с помощью Иисуса Христа».
Я первым залез в баптистерий. Двое молодых дьяконов в парадном облачении, с золочеными епитрахилями через плечо, подвели меня к мраморным ступенькам и помогли подняться. Встав на край баптистерия, я оглядел собравшихся, окинул их быстрым взором. Вот они стоят тут все — те люди, которых я уже успел хорошо узнать. Имена многих я помню, имена некоторых — нет. Но все они сейчас станут свидетелями и участниками важнейшего, главного события в истории России. Кроме меня, никто из стоящих здесь до конца этого не понимает, но с сегодняшнего дня начинается действительная история нашей страны! Та история, которой будут гордиться, которой будут дорожить и которая станет путеводной звездой дли миллионов людей.
По таким же ступенькам внутри баптистерия я спустился в воду и встал на дно. Вода доходила мне до середины груди.
— Василий, — обратился ко мне Анастат, склонившийся над стенкой баптистерия и взявший меня за плечи. — Отрицаешься ли Сатаны и всех дел его?
— Отрицаюсь.
— Даешь ли Богу обещание доброй совести?
— Даю.
— Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа…
С этими словами епископ надавил мне на плечи и погрузил с головой в воду.
Когда спустя секунду я поднялся, то услышал слова: «Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести…»
Те же два дьякона помогли мне подняться из воды. Струи стекали с меня на мраморный пол, я оставлял следы босых ног на полу. Старый епископ шагнул ко мне и, прижав одной рукой к себе, вознес другую над моей головой.
— Да благословит тебя Господь! — услышал я дребезжащий старческий голос Анастата. — Да презрит на тебя Господь светлым лицем Своим. Да пошлет тебе Господь мир!
Следом за мной в воду полез муромский князь. Овтаю вода доходила до живота, и епископу пришлось просить его сильно согнуть колени во время погружения. Спустя минуту нареченный в христианстве новым именем Илья Муромец снова, уже мокрый, встал рядом со мной.
Затем крестились остальные дружинники, изъявившие желание последовать примеру своих князей. Из баптистерия они выходили присмиревшие, с серьезными выражениями лиц. Они утирали воду, текущую по лицам, и я видел, что настроение их изменилось. Теперь они уже не думали о том, что участвуют по прихоти князя в каком-то шутейном действе. Нет, благодать Святого Духа, сошедшая на них во время крещения, дала многим понять — это навсегда, это поворот в личной жизни и поворот в истории. Прежнее должно быть оставлено…
«Оставь теперь, — сказал Иисус Иоанну Крестителю во время крещения. — Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
Вот, мы совершили всякую правду в тот день, и я рассказал о своем крещении.
Любава подошла ко мне сразу после совершения таинства. Ее сопровождал архонт Херсонеса, который совершенно перестал понимать, что происходит вокруг него. Человек он был немолодой, и мне отчасти даже жалко было этого полного заспанного грека, чья жизнь протекала так мирно и скучно до самого недавнего времени. Теперь же голова у архонта пошла кругом. Не успел он переварить известие о том, что победитель — киевский князь желает принять святое крещение, как поступило новое известие — в городе находится сама сестра императора Анна.
Понимал ли несчастный архонт, что принцесса Анна — никакая не Анна, а бывшая рабыня славянка Любава? Конечно, понимал. Архонт был неглупый человек, и уж никак не сумасшедший. Но что ему оставалось делать?
Ведь киевский князь объявил, что собирается жениться на этой женщине, как на сестре императора Василия, в знак вечного мира и дружбы. А вдруг императору будет угодно признать ради политического интереса эту женщину своей сестрой? А что? Вполне возможно: архонт допускал такой вариант развития событий. Император хочет усмирить Русь и дружить с нею? Да, это всем известно. А тут подворачивается такой отличный случай. Даже не нужно посылать собственную сестру в лапы киевскому князю, раз он уже нашел кого-то.
Любава обняла меня, прижалась к моей влажной груди.
— Бог да благословит тебя, Солнышко, — прошептала она мне на ухо. — Ты станешь хорошим христианским государем. Я буду любить тебя всю мою жизнь.
Я оглянулся и увидел, что все смотрят на нас с Любавой. Еще бы, это ведь тоже историческое событие: принцесса Анна поздравляет своего жениха с крещением. Впереди всех остальных стояла группа из трех человек, которые, глядя на нас, улыбались. Это были Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Оглядев их, я пожалел о том, что нет фотоаппарата — отличный получился бы снимок на память…
— Завтра будет причастие, — сообщил епископ Анастат, когда после богослужения мы все вышли из собора. — Вам всем обязательно нужно быть. Сначала исповедь, а затем — первое в вашей жизни причастие. — Потом повернулся к Алеше Поповичу и, по отечески тронув его за плечо, спросил: — Ты хочешь, чтобы я рукоположил тебя диаконом? Это можно будет сделать завтра после причастия. Ты вернешься на Русь и станешь служить в Киеве, как твой отец.
Юноша, не ожидавший такого вопроса, замялся. Кровь бросилась ему в лицо, он молчал.
— Так что? — повторил Анастат. — Я готов сделать это ради твоего погибшего отца-мученика и ради твоей страны. Уверен, что ты станешь со временем хорошим священником.
— Я хотел бы стать хорошим воином, — вдруг выпалил Алеша в ответ. — Ваше преосвященство, я не ощущаю в себе духовных сил для пастырского служения. Мне бы на коня и в бой. Тем более что я уже попробовал свои силы — у меня неплохо получается. Воины ведь тоже нужны Церкви и родине?
— Нужны, нужны, — вставил Добрыня. — У парня и вправду хорошая твердая рука. Я сам видел, как он управляется с мечом, так что пусть станет воином.
Потом Алеша очень жалел о том, что ответил отказом старому епископу. Не потому, что передумал и захотел стать священнослужителем, а по другой причине.
Этой ночью Анастат умер в своей постели.
Его нашли мертвым утром, когда служанка пришла будить хозяина. Старый епископ лежал спокойно, смиренно и молитвенно сложив руки на груди. Его лицо выражало полное удовлетворение.
В таких случаях говорят: «Хорошо, что не мучился. Хорошая смерть».
А я стоял над мертвым телом и думал о том, что Николай Константинович Апачиди вовсе не умер, а вернулся в 1890 год, откуда был в свое время взят. Он вновь стал молодым, и ему предстоит долгая интересная жизнь. В конце концов, разве такое невозможно? Ведь он выполнил возложенную на него миссию и, значит, заслуживает награды.
Я думал об этом напряженно, потому что это же самым непосредственным образом относилось и ко мне. А что станет со мной, когда я тоже исполню свою миссию? Я умру? Но это значит, что я вернусь назад…
Отсюда вытекали два вопроса. Первый вопрос — когда неведомое Нечто сочтет, что моя миссия в этом мире выполнена? И второй, оказавшийся куда более интересным: а хочу ли я возвращаться назад?
Вот этого я от себя не ожидал. Еще недавно я с замиранием сердца и отчаянием думал о том, что никогда, никогда мне не удастся вернуться назад, в свою жизнь, в Москву двадцать первого века. Я думал, что это невозможно.
Но сейчас я уже знал, что это возможно. Во сне Анастату сообщили о том, что он будет депортирован, а теперь, спустя всего пару дней, он умер. Мне было ясно, что означает эта внезапная тихая смерть в своей постели. Это означало переход.
Такое же возможно и со мной, теперь я получил этому подтверждение. Труп Анастата служил тому доказательством.
И что же? Хочу ли я этого так же, как прежде?
Вернуться в Москву, вновь работать врачом на «Скорой». Ездить на отдых в Турцию, со временем купить подержанный, но вполне исправный «Форд». Жениться на фельдшерице, с которой познакомлюсь когда-нибудь на работе. Или на докторше-терапевте. Она будет маленькая, голубоглазая. Я познакомлюсь с ее родителями, мы вместе будем ездить на дачу…
Там теплые сортиры, электричество, телевизор и Интернет. До старости я буду наслаждаться комфортом и удобствами. До старости буду встречать Новый год в тапочках, с коньяком и новогодним поздравлением Путина российскому народу.
Я стоял над массивной деревянной кроватью, на которой лежало тело старенького епископа, и думал. Но что тут можно было думать? От меня не зависело ничего…
Киев встречал нас ликованием. Не успели струги причалить к деревянной пристани, как весь город высыпал нам навстречу. Здесь были все: местные жители, иностранные купцы, бояре и челядь. Войско князя Владимира возвращалось с великой победой.
Когда мы вернулись из неудачного похода на Булгар, жители все равно радовались: сыновья, братья и отцы вернулись живыми — это уже хорошо. Но сейчас триумф был полный.
Не только успешно взята крепость Корсунь, но привезена огромная добыча. Скарб наших дружинников ломился от золота и серебра, вывезенного из ограбленной дочиста Корсуни.
Как тут не кричать славу великому князю?
А было ведь еще и моральное удовлетворение. Князь Владимир женится на принцессе из Константинополя, на сестре самого императора Византии. Такой брак, еще недавно казавшийся немыслимым, стал вдруг возможен. Этим тоже гордились. Прекрасно понимая, что союз с Византией возможен только в одном случае — крещения Руси.
Это людей смущало. Слишком долго и упорно верили в то, что стать христианином — это значит предать своих старых богов, а это значит — предать родину, заветы отцов, старинный уклад и правила жизни. Это измена!
А тут христианином стал сам князь. Тут уж ничего не скажешь, но примириться с таким непросто.
Из Херсонеса с нами отправились в Киев четыре греческих священника и восемь диаконов — я сам попросил об этом. Они должны были крестить народ киевский и других земель.
Когда я сошел со струга под руку с Любавой, которая по этому случаю нарядилась в парадные одежды византийской принцессы, перед нами на берег сошла процессия священнослужителей. Все они были одеты в черное, в рясах и клобуках, с хоругвями и иконами в руках. С пением «Спаси, Господи, люди Твоя», они двинулись вперед, вверх по склону к центру города. За ними — мы с Любавой и остальные ближние дружинники — обитатели терема.
Шедший рядом с нами Алеша Попович подтягивал пению священников, и мы с Любавой старались так же. Сзади нас слышалось зычное пение Добрыни Никитича:
— Спаси, Господи, люди Твоя и благослови все достояние Твое…
Впервые христианское песнопение так свободно, привольно раздавалось над просторами Днепра, на русской земле. Оно звучало громко, настойчиво, как призыв к новой жизни. Звучало как знак того, что прошлое ушло и не вернется. Что славить Господа Христа можно отныне открыто, потому что кругом неизбежно торжествуют добро и любовь. И время старых богов закончилось — наступила их гибель.
На княжеском дворе дымились костры, на которых женщины готовили праздничное угощение. Здесь же были привязаны несколько коз и овец, предназначенных для благодарственного жертвоприношения богам.
— Этого больше не будет, — сказал я, едва увидел жрецов в их кожаных одеждах, с ритуальными ножами, висящими на поясе. — Великий киевский князь больше не станет служить ложным богам. Мы построим храм Божий и там будем славить Господа Спасителя. Уберите жертвы.
Но все оказалось не так просто. Мне предстояло пережить еще одно испытание.
— Нет, князь, — твердо произнес воевода Свенельд, внезапно заступив мне дорогу и встав прямо напротив. — Ты стал христианином и не спросил нас. Ты не подумал о том, что не все в Киеве стали предателями. Не все согласны служить твоему Христу. И ты еще хочешь запретить нам принести жертвы богам. Богам, которые даровали нам столько побед!
Свенельд сказал все это громко, не таясь, и видно было, что он взбешен. Видимо, он долго сдерживался, но теперь моя слишком решительная выходка окончательно вывела его из себя — воевода потерял самообладание.
Вообще я убежден в том, что люди должны постоянно учиться друг у друга. У всякого человека можно поучиться чему-то хорошему. У Свенельда я мог бы поучиться выдержке. Надо отдать ему должное — он терпел очень долго. Вероятно, по его понятиям — бесконечно долго.
Ведь Свенельд прекрасно помнил Любаву и дал мне это понять. Но он не вмешался, ни словом не обмолвился никому о том, что «принцесса Анна» — никакая не принцесса, а бывшая рабыня, а до этого ключница покойного полоцкого князя. Свенельд не вмешался в мою затею жениться на Любаве.
Более того, он стерпел мое крещение и то, что большая часть дружинников последовала примеру, который я подал. А ведь это наверняка до крайности возмущало Свенельда.
Но теперь он взорвался. Князь Владимир перешел границы допустимого — он запретил совершить жертвоприношение богам!
Во дворе наступила тишина. Ее нарушали только треск сучьев в кострах да блеяние приготовленных для заклания животных. Любава прижалась ко мне, и я ощутил, как напряглось все ее тело — она чуяла угрозу. Сзади слышалось тяжелое дыхание Алеши Поповича…
Оглянувшись, я увидел угрюмые лица, внимательно и настороженно глядящие на нас со Свенельдом. Если мы сейчас вступим в конфликт с воеводой, сколько людей окажется на моей стороне?
И я отступил. Еще папа в детстве говорил мне, что зарываться нехорошо. Отличный урок того, что даже князю не стоит расслабляться.
— Я не говорил, что запрещаю провести жертвоприношение, — произнес я дрогнувшим голосом, стараясь сохранить достоинство. — Я сам стал христианином и поэтому не стану в нем участвовать. Но все, кто хочет, могут это сделать…
Мы смотрели друг другу в глаза. Свенельд понял меня. Он недобро усмехнулся и принял мою капитуляцию.
— Мы пойдем к алтарю Перуна, — сказал он. — Если все-таки захочешь быть со своей дружиной, князь, то приходи туда.
Из уст взбешенного Свенельда это приглашение прозвучало скорее угрозой…
Мы поднялись на второй этаж терема. Рядом со мной были Любава, Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Все были мрачны, потому что предвидели осложнение ситуации.
Многие дружинники ушли вместе с воеводой к алтарю Перуна совершать жертвоприношение. Туда же стекалась толпа киевских жителей. Там, у языческого алтаря может произойти все, что угодно.
Нам оставалось только надеяться на здравый смысл Свенельда. Надеяться на то, что он не призовет дружину и жителей города расправиться с князем-отступником. Тогда побоище будет знатным.
Я не верил в то, что пожилой воевода решится на такое. Тем более что исход был слишком непредсказуем.
Кроме того, говорил я себе убежденно, Свенельд — честный человек.
Впрочем, мало ли честных людей совершали государственные перевороты?
На всякий случай Илья Муромец велел людям своей рати устраиваться на ночлег поблизости от княжеского терема. То же приказал новгородской дружине Добрыня Никитич.
Ликование по поводу нашего победного возвращения сменилось тревогой.
Когда спустя некоторое время ближняя дружина вернулась в терем, мы всматривались в лица — не задумали ли чего люди воеводы. Но нет, наше волнение было напрасным. Длинные столы во дворе составили рядами и накрыли полотняными скатертями. Начался праздничный пир.
Тут без князя не могло обойтись, и мы спустились. Пили за здоровье принцессы Анны, за мое здоровье и даже за здоровье императора Василия Второго, но это уж совсем сгоряча…
Назавтра муромская и новгородская рати должны были уйти из Киева, вернуться в свои родные места, так что воины прощались друг с другом. За время нашего похода многие познакомились и подружились, так что теперь, при расставании им было что сказать. Конечно, договаривались обязательно увидеться еще — на следующий год, во время следующего похода. Куда? Да какая разница? Куда князь поведет — туда и двинемся за славой и добычей.
А я сидел рядом с Любавой, держа ее за руку и думая о том, как много предстоит теперь сделать. Меня охватывало волнение при одной мысли об этом. Нужно вызвать ремесленников из греческих и мадьярских городов. Пусть они научат строит каменные здания, храмы, а в особенности — печи. Пора уже научить здешних женщин печь блины и пироги!
Где-то нужно раздобыть алфавит, подходящий для славянского языка. Нужно ведь перевести Библию и другие священные тексты. Как сделать это при отсутствии письменности? Как звали этих двоих, которые изобрели славянскую письменность и перевели Библию? Ну-ка, ну-ка… Ага, вот, вспомнил: Кирилл и Мефодий. Завтра же велеть найти их и привезти сюда, в Киев.
И еще много, много чего…
Все это было в истории России, а значит, я должен позаботиться о том, чтобы это непременно произошло.
Ночью Любава набросилась на меня, повалив на медвежью шкуру. Она по-хозяйски оседлала меня и начала скакать, как опытная наездница. Свою горячность и нетерпение она объясняла своим воздержанием в течение целого года, что находилась в плену.
— Представляешь, Солнышко, — жарко шептала она мне в ухо своими влажными губами. — Так много мужчин вокруг, и все они хотели меня, твою Сероглазку… Но Сероглазка всем отказала. Кому отказала, от кого отговорилась. Да. И все для того, чтобы сохранить верность тебе. Я ведь знаю, как ты к этому относишься. Но знаешь, как тяжело было воздерживаться? Бывало, хоть плачь, хоть кричи от желания, до того хотелось. Но вот, Сероглазка дождалась свое Красное Солнышко!
Как мог я после таких рассказов отговариваться усталостью и опьянением? Нет, так не делается. Так что по ночам я поступал в полное и безраздельное владение Любавы. Дорвавшись до своего, она не выпускала меня из объятий до тех пор, пока мы оба не падали, утомленные, едва ли не замертво, чуть дыша.
Я гладил ее крутое бедро, полные упругие ягодицы, влажные от выступившего пота, и жалел только о том, что силы мои не беспредельны и нужно ждать завтрашней ночи.
Прошло несколько недель. За это время выяснилось, что в Киеве у меня нашлось гораздо больше помощников, чем казалось на первый взгляд. Боярин Блуд был совершенно прав, когда говорил о том, что очень многие хотят перемен и стремятся к новому. Другое дело, что люди могут бояться выступить первыми. Они молчат и ждут своего часа. Ждут, когда перемены свершатся как-то сами собой, и тогда можно будет свободно и ничего не опасаясь к ним присоединиться. Наверное, такова природа человеческой натуры — не всем же быть героями и первопроходцами. Всякий человек боится выступить первым, у всех дома, семьи, налаженная жизнь, и никто не хочет рисковать своим благополучием. Но перемен ждут многие, и это выяснилось буквально с первых же дней моего возвращения из Корсуни.
Весть о том, что князь принял христианство, а вместе с ним крестились и многие дружинники, облетела город. Обнаружились люди, бывшие прежде христианами и затаившиеся после гонений. Появились и те, кто христианином не был, но активно сочувствовал греческой вере и понимал, что именно христианство — верный путь к дружбе с соседними странами, к союзу с Византией — могучей державой.
Приехавших с нами греческих священников и диаконов разобрали по своим домам местные жители. Там гости учили славянский язык и заодно уже начали свою проповедническую деятельность. Кирилла и Мефодия мне искать не пришлось — изобретенный ими славянский алфавит уже был в сумах приехавших греческих священнослужителей.
На Подоле и в центре города, где когда-то казнили первых киевских христиан, уже начали рубить новые храмы для совершения богослужений. Иногда казалось, что я только дал импульс, а теперь все происходило как бы само собой — Русь ждала Христа.
Казалось так не только мне.
В один из дней ранней осени ко мне пришел воевода Свенельд. Он был не один, с ним явились Фрюлинг и еще двое бояр. Когда на лестнице раздались тяжелые шаги нескольких людей, я встрепенулся и проверил, на месте ли меч. Находившийся рядом Алеша Попович вскочил и насторожился.
Вошедший первым Свенельд зорким глазом увидел нашу тревогу и усмехнулся. Вообще, недоброжелательная кривая ухмылка теперь часто появлялась на его лице.
— Неспокойная стала у тебя жизнь, князь, — сказал он. — Чуть что, и за меч хватаешься в собственном доме. Нехорошо это.
— Конечно, нехорошо, — согласился, и указал на лавку напротив. — Садитесь, гости дорогие.
— Не дорогие мы тебе, — веско сказал воевода, грузно усаживаясь и подбирая полы длинной одежды. — Не дорога тебе Русь, князь. Горько и обидно нам смотреть на то, как ты забыл заветы отцов и дедов. Горько глядеть на то, как приводишь на нашу землю греческих жрецов. Как ты уничтожаешь все, что дорого нам от века. Как насаждаешь веру в Христа — чужую нам веру.
В каком-то смысле я даже обрадовался этому визиту. Нарыв, который созревал уже давно, когда-то должен был прорваться наружу. Конфликт между христианством и язычеством не мог слишком долго тлеть подспудно.
Кроме религиозных — почитания старых богов, имелись еще и социальные причины. Если Русь станет христианской страной, она прекратит набеги на южных и западных соседей. Постепенно цивилизуясь, она станет такой же страной, как ее культурные соседи. А это значит — сломается привычный уклад жизни. Неуместными станут разбои и грабежи соседних стран, куда денутся воины, которые умеют только убивать?
Некоторое время мы препирались со Свенельдом о сущности перемен, происходящих в Киевском государстве, но по лицам воеводы и его молчаливых спутников я видел, что они пришли сюда не дискутировать.
А зачем же? Неужели убить меня — неугодного?
Нет, не то. Убить можно было сразу и без всяких разговоров. Убить можно было тайно, из-за угла. В конце концов, воевода мог организовать покушение на меня…
Я смотрел в окно на двор, где ветерок гонял начавшие опадать осенние листья. Ходили люди, о чем-то переговаривались. Тлел костер, который еще не начали разжигать для приготовления обеда…
Привычная картина, обычная жизнь. Но от нашего разговора со Свенельдом и его спутниками сейчас что-то серьезно изменится. Я это чувствовал, да и понимал умом — тягостная ситуация должна разрешиться.
— Киевская держава становится христианской, — сказал воевода, насупившись и поджав губы. — Мы это видим и не согласны с этим. Но мы не хотим войны внутри страны, потому что мы — воины, а не мятежники. Из поколения в поколение наши отцы и деды защищали эту землю от внешних врагов. И не нам, их потомкам, затевать внутреннюю распрю.
— Вы — это кто? — решился спросить я, когда воевода ненадолго замолчал, чтобы перевести дух.
— Мы — это русы, — спокойно ответил он. — Мы жили здесь всегда, это наша земля, а поляне только потом пришли сюда.
Ну, это был спорный вопрос, и я не был в нем компетентен. Поэтому оставалось ответить уклончиво.
— Все народы считают, что земля, на которой они живут, — их исконная. А все остальные — пришлые. На самом деле народы перемещаются по лицу земли, и это нормально.
— Христианство, эта зараза, идет от тебя, — сказал Свенельд, не обратив внимания на мои слова, показавшиеся ему неважными. — Проще всего было бы устранить тебя самого. Скажу тебе прямо, князь, мы смогли бы это сделать. Думаю, что ты это знаешь. Особенно если вспомнишь о том, как сам стал князем.
Воевода покосился на своих спутников: они-то ничего не знали о том, как Блуд с Добрыней и Свенельдом «произвели» меня в князья, прикончив перед этим моего незадачливого тезку…
Впрочем, все хранили молчание и не задавали вопросов. Понятно было, что мои визитеры заранее договорились о том, что станут делать.
Я молчал. А что бы я мог сказать? Ведь мне были неизвестны их намерения. В ту минуту мне оставалось лишь сидеть и слушать да постараться не довести до крайности. О том, что с людьми, говорящими неосторожные речи, тут разговор короткий, я знал слишком хорошо…
— Дело в том, что, устранив тебя, князь, мы только отложим принятие христианства в Киеве и зависимых землях. Да и то ненадолго. Большинство здешних людей хотят стать христианами. Ты это знаешь, и мы это видим. Но только не русы — это не наша вера.
Последние слова Свенельд произнес так мрачно, что я даже испугался. Но, видимо, воевода просто выразил плоды своих действительно тяжких раздумий.
— Наша вера — война, удаль, удача. Наши боги — воины. Мы не станем служить чужому и слабому богу, которого распяли на кресте. Это было бы позором для нас. Наши пути со славянами разошлись. Славян больше, чем нас, но мы воины, и мы не будем плясать под славянскую дудку. Кто хочет мира, пусть ищет мир. А кто хочет войны и славы — тот найдет их.
Спутники воеводы уже несколько раз тревожно и вопросительно взглядывали на него, а он все говорил и говорил. Свенельд не мог остановиться. Всегда немногословный, сейчас он был даже слишком словоохотлив. Он говорил и никак не мог выдавить из себя главное — не мог найти в себе сил сказать это…
— Мы уходим, — вдруг, не дождавшись, когда воевода решится, выпалил Фрюлинг. — Мы, народ русов, уходим от вас и будем искать свою судьбу и удачу в другом месте.
— Христианами мы не станем, — разом подтвердили два другим боярина, до того сидевшие молча. Они сурово смотрели на меня, и в их серых глазах я читал осуждение.
— Ты нас не заставишь изменить нашу жизнь, князь, — повторил Фрюлинг. — Мы уйдем и будем жить по-прежнему, как сами хотим.
Ну вот, теперь главное было сказано!
Я почувствовал, что можно расслабиться, ведь непосредственная опасность миновала. Меня не станут убивать прямо здесь. Не будут душить, колоть, резать и мой труп затем не выбросят из окна во двор.
— Я не могу вас остановить, — произнес я чуть осипшим голосом и сам не понял, сказал я это вопросительно или утвердительно.
— Нет, не можешь, — подтвердили мои визитеры. — Мы решили уйти и уйдем. С христианами нам нет одной дороги.
Что ж, это тоже было решение вопроса. Причем куда более мирное, чем можно было предполагать. Если русы уйдут, население Киевского княжества, да и других земель станет более этнически однородным. Во всех городах и селах будут решительно преобладать славяне. А они, как я уже успел заметить, были в основном доброжелательно настроены к христианской религии. Во всяком случае, славяне не поклонялись воинственным богам и не так дорожили военной славой, как их ближайшие соседи и сограждане.
— Куда вы собираетесь идти? — спросил я.
— Ты дашь нам письмо к императору Василию в Константинополе, — пояснил Свенельд. — Попросишь, чтобы он пропустил наши струги через пролив в Серединное море. Там мы будем искать себе новое место.
Я представил себе Средиземное море и возможности, которые там открывались. Италия, Испания, Греция, многочисленные острова. А есть еще южные берега, где живут арабы…
Это — бурлящий котел, где постоянно идет война всех против всех. Для небольшого, но воинственного и мужественного народа там всегда найдется чем заняться и где сложить буйные головы…
Судьба народа русов была мне предельно ясна. Для этого мне не нужно было обладать даром предвидения. В мире, из которого я прибыл, никаких русов не существовало. Более того, даже память о них стерлась навеки.
Осталось название страны — Русь, но это уже давно славянская страна, и никто в двадцать первом веке не вспоминает о том, что происходит оно от народа рус. Остался город Старая Руса, но кто же вспоминает о его действительном происхождении?
Нет, этот народ обречен историей. Они все погибнут. Может быть, не в этом поколении, так в следующем. Во всяком случае, русам предстояло исчезнуть из истории навсегда. История молчит о том, какую именно землю усеяли русы своими мертвыми телами — Италию, Испанию или алжирское побережье. Если бы я сообщил об этом Свенельду и его спутникам, то нанес бы им обиду. Они не поверили бы мне и решили, что я их запугиваю. Да и должен ли я говорить что-либо? В моих знаниях и комментариях тут никто не нуждался.
— Я дам вам письмо к императору, — сказал я.
На самом деле я испытал некоторое облегчение. Уход русов сильно облегчал мою задачу. Без них переворот в истории страны пройдет менее болезненно, без лишних толчков и ухабов.
Из Великого Новгорода прибыл очередной купеческий караван, и по Киеву разнеслась весть о том, что делается в северных краях. Добрыня Никитич, вернувшись в Новгород, немедленно объявил о том, что все жители без исключения должны креститься. Воины по приказу Добрыни в один день собрали по городу все изображения языческих идолов и выбросили их в Волхов. А те из жителей, кто вздумал возмущаться этим, поплыли вверх животами по Волхову-реке следом…
Слушая эти леденящие кровь истории, я думал о том, что Добрыня заслуживает если не снисхождения, то по крайней мере понимания. Его ярость по отношению к язычеству была понятна: его собственный сын пострадал от религии Перуна. Усердие Добрыни в насаждении христианства любой ценой было, таким образом, объяснимо.
Но я с содроганием понимал, что для меня такое невозможно. Немыслимо мне отдать приказ убивать людей из-за веры…
А если так, то справлюсь ли я со своей миссией? Как видно, старое будет отчаянно сопротивляться новому, и без жесткости тут не обойтись. Не все же, подобно русам, решатся покинуть родную землю и отправиться в другие края. Нет, многие останутся и окажут сильное сопротивление. Их придется принуждать силой, а как это здесь делается, мы все уже видели на примере Добрыни в Новгороде.
Русы уходили. Это было похоже на библейский исход. Конечно, покинуть навсегда родные дома, родную землю решились далеко не все. Многие остались в своих деревнях, кто-то остался в самом Киеве и в других городках. Но основная, наиболее активная и дееспособная часть народа сначала собралась в Киеве, а затем в назначенный день с раннего утра толпы русов с женами и детьми потянулись вниз, к пристани, чтобы грузиться на приготовленные струги.
Стругов было так много, что они загородили собой почти весь Днепр напротив города. Суда стояли в несколько рядов, борт к борту, и грузящиеся люди шагали с корабля на корабль в поисках свободных мест.
Им предстояло долгое плавание, и каждый старался устроиться поудобнее. Было много детей — светловолосых, голубоглазых и таких же женщин — высоких, с крепкими стройными фигурами и распущенными по плечам длинными золотистыми волосами.
Жители Киева — славяне стояли молча большими толпами по берегу Днепра и наблюдали за погрузкой. В воздухе висело напряжение. Получалось, будто русов изгоняют из родных мест, хотя все знали, что это совсем не так.
В жизни каждого народа бывают моменты, когда происходит роковой выбор своей судьбы. Русы сделали свой выбор сейчас, и из всех стоящих на берегу один лишь я точно знал, что выбор — неудачный, проигрышный. В результате этого выбора народ исчезнет.
А славяне отныне оставались в Киеве одни. Теперь единому этносу предстояла своя особенная судьба. Не зазвучит больше на днепровских просторах звонкая германская речь русов, не огласятся больше южные степи их боевым криком, не дрогнут враги от ярости светловолосых берсерков.
Прощания на пристани не было. Севшие на струги люди старались не смотреть на берег. Киев и все остальное, оставшееся на берегу, принадлежало для них теперь другой, прошлой жизни. И нечего было прощаться и вспоминать. Впереди ждала другая, новая жизнь, новые битвы, новая слава.
— Надеюсь, ты не сердишься на меня, — сказал я Свенельду накануне, когда мы прощались. — Я совсем не собирался сгонять вас из родных земель.
— На тебя? — грустно вскинул на меня свои полузакрытые седыми бровями глаза воевода. — При чем тут ты? Уж я-то прекрасно знаю, что ты — вообще посторонний, чужой человек. Мне ли не помнить, как мы с Блудом делали из тебя князя? Так угодно богам, чтобы все это случилось. Верно, есть какая-то сила в этом вашем Христе, раз он побеждает. Мы уходим не от тебя, князь, и не из киевской земли, а от вашего нового бога.
Потом Свенельд вдруг осекся и несколько мгновений молчал.
— Желаю тебе удачи, — сказал он мне. — Не знаю, что тебя занесло к нам сюда и зачем это нужно, но ты прижился в нашем времени.
Потом воевода усмехнулся, на сей раз лукаво, не смог сдержаться и добавил:
— А с принцессой Анной ты здорово придумал. Надо же быть таким смелым — объявить сестрой византийского императора собственную любовницу! Хотя я тебя понимаю: Любава и вправду того стоит. Когда я навещал князя Рогвольда, его молодая ключница мне даже очень запомнилась…
Настоящий воин — всегда воин, он никогда не сдается. Несмотря на свой солидный возраст и жизненный опыт, Свенельд все-таки не удержался и сказал мне гадость на прощание. Но потом мы все равно обнялись — так требовал старинный обычай.
Струги отчаливали один за другим. С берега, усеянного остающимися жителями города, вдруг стали махать на прощание белыми платочками — знак пожелания удачи. Замелькали платочки и со стругов, но вскоре стали плохо видны: корабли двигались вниз по течению, и народ русов уходил в неизвестность…
Когда мы с Алешей Поповичем поднимались с пристани обратно в город, навстречу бежала Любава. Она никогда не вела себя как греческая принцесса — ходила везде одна и вообще была самостоятельна. Вот и теперь без всякого сопровождения она стремглав бежала нам навстречу, подобрав выше колен длинную полотняную юбку.
Я залюбовался ею, но испуганное лицо Любавы заставило меня насторожиться. Что еще за напасти могли случиться? О чем она бежит сообщить мне?
— Солнышко! — задыхаясь от бега, заговорила Сероглазка, схватив меня за руку. — Хорошо, что я успела… Очень хорошо! Это ты, мое Красное Солнышко! Это ты?
Она, как безумная, всматривалась в мое лицо. Платок, который Любава носила на голове после своего крещения, от быстрого бега сбился набок, и волосы рассыпались из-под него.
— Красное Солнышко, — повторяла она. — Это ты?
А сама все сильнее сжимала мою руку, за которую схватилась. Все-таки женщины — ужасные трусихи… Но что ее напугало?
— Пойдем в терем, — сказал я. — По дороге расскажешь, что стряслось. Где ты была? Я думал, что ты где-то поблизости.
Любава еще тяжело дышала после бега. Ее пунцовое раскрасневшееся лицо было крайне испуганным, и она не отпускала мою руку.
— Солнышко, — заговорила она вполголоса, чтобы нас не слышал идущий сзади Алексей. — Я ходила на торг. Не хотела глядеть на уезжающих русов, вот и решила развлечься. Такие красивые украшения привезли купцы с севера. Там чеканное серебро, янтарь и еще многое другое. А там, на торге, я увидела вдруг… Знаешь, Солнышко, у меня даже сразу дыхание перехватило…
— Ну, что ты там увидела? — Я уже начал терять терпение. — Неужели Змея Горыныча с тремя головами?
— Тебя, — выпалила Любава. — Она внимательно посмотрела на меня и повторила: — Я увидела тебя. Это был ты. Там, в рядах, среди северных торговцев…
— Но я же здесь, ты видишь. Как я мог быть на торге, да еще в виде торговца?
— Конечно, я увидела не тебя, Солнышко, — поправилась Любава. — Но этот человек выглядит совсем как ты. Если надеть на него твою одежду, то даже я бы не отличила. Он как твой брат-близнец. Мне стало так страшно.
Честно говоря, в ту минуту страшно стало и мне. Как-то противно засосало под ложечкой. Человек, абсолютно похожий на меня, но не я. К чему бы это? Что-то эта ситуация мне напоминала…
Видно, то же самое ситуация напоминала и Любаве. Именно поэтому она выглядела такой испуганной.
— И что ты сделала?
— Что я могла сделать? Со мной была одна женщина из наложниц, и я решила вместе с ней подойти к этому купцу, чтобы поговорить. Ну, знаешь, вдруг я ошибалась и он совсем уж не так похож на тебя? И вот мы двинулись к нему, он стоял за прилавком со своим товаром. Народу было не очень много, не как обычно: все же пошли на берег. И этот купец вдруг увидел нас, как мы приближались. Ой, Солнышко, мне страшно даже рассказывать об этом.
Любава посмотрела мне в лицо своими округлившимися глазами и произнесла:
— Он увидел нас, и в его лице что-то изменилось. Наверное, он понял, что я узнала его. До него оставалось идти уже совсем немного, но я вдруг остановилась как вкопанная и не смогла двинуть ни рукой, ни ногой. Поверишь ли, даже говорить не могла. Просто застыла, и все.
Когда я еще жила в Полоцке у князя Рогвольда, там был один волхв, — продолжала Любава. — Он тоже умел так делать. Взглянет на человека, и тот становится словно окаменевший. И так стоит, даже глазами не хлопает. И я стояла, смотрела, как этот купец собрал свой товар и ушел. Быстро ушел, Солнышко, он испугался и убежал. А я ничего не смогла сделать.
Она говорила о гипнозе, это я сразу понял. Не самая распространенная человеческая способность, однако все же не нечто сверхъестественное. Но сама ситуация! Как говорил мой профессор в мединституте, вопрос, конечно, интересный…
— А потом ты очнулась?
— Потом я обрела способность двигаться, но было уже поздно — тот купец исчез.
Хм, исчез. Надолго ли?
Если он то, о чем я догадываюсь, то, во всяком случае, проинструктировали его получше меня. Например, он узнал Любаву и понял, кто она такая. Кстати об инструкциях: а какие у него инструкции?
После битвы с «послом» в нашем лагере под Корсунью мною постоянно владело беспокойство. Я узнал тогда, что Нечто, забросившее меня сюда и направляющее мои поступки, — не единственная сила, не единственное Нечто. Есть еще и «конкурирующая организация»…
Этот неведомый купец с моей внешностью — чей он посланец? С какой целью он появился в Киеве?
— А ты не пыталась его поймать? — на всякий случай поинтересовался я у Любавы. — На торге ведь дежурят городские стражники. Все знают, что ты — принцесса Анна и невеста князя. Если бы ты обратилась к страже, тебе бы наверняка помогли.
Любава долго не отвечала на мой вопрос, молчала. Она шла рядом, держась за мою руку, и глаза ее были печально-встревожены.
— Ах, Солнышко, — подавленно сказала она наконец. — Ты же и сам понимаешь — стража тут не поможет. Что бы я сказала стражникам? Что бы они смогли сделать?
— Можно было поймать этого странного купца и привести ко мне, — предположил я. — Мы бы с ним поговорили…
— А ты уверен, что хотел бы встречаться с ним? — спросила Сероглазка, и я в который уже раз подумал о том, какая она умная и проницательная.
Действительно, зачем нам встречаться? О чем говорить? Наверное, у него есть задание, миссия, роль. Наверное, я не укладываюсь в его планы. Чего я могу добиться?
Можно поймать и убить его. Вполне простое решение, почему бы нет? Но это ведь будет только паллиатив. Убийством купца можно лишь на время отложить нечто неминуемое. Причем, скорее всего, лишь на очень короткое время…
Запыхавшиеся от долгого подъема в гору и от быстрой ходьбы, мы вошли в ворота княжеского терема. Я нервно огляделся. Вроде бы все как обычно.
— Алексей, — обратился я к оруженосцу, — скажи дружинникам, чтобы они закрыли ворота во двор и никого не пускали сюда из посторонних. А в особенности чтоб смотрели, не придет ли человек, очень похожий на меня.
— На тебя? — удивился Алеша. — Как это? Что это за человек?
— Откуда мне знать, — пожал я плечами. — Только смотрите в оба — такой человек может появиться здесь.
Алеша Попович был явно озадачен таким приказанием. Он с изумлением смотрел на меня, и его лицо выражало сомнение в моей вменяемости. В здравом ли уме князь?
— А если появится такой человек? — осторожно спросил Алеша. — Что нам с ним делать? Привести к тебе?
— Нет, — вмешалась Любава. Ее глаза блеснули, и она твердо произнесла: — Если появится такой, то изрубите его на месте. Не надо с ним разговаривать.
Алексей перевел вопросительный взгляд на меня, ища подтверждения столь странному и кровожадному приказу. Похоже, он вообще не ожидал такой жесткости от принцессы Анны.
А мне вспомнился «посол» в нашем лагере под Корсунью. И то, сколько прекрасных воинов мы потеряли в ту злополучную ночь. Один Драгомир чего стоил. Да и сумели мы отбиться только благодаря мужеству Аскольда, Овтая и Свенельда. А теперь Аскольд мертв, Овтай — Илья Муромец ушел в свое княжество, а Свенельд плывет на струге навстречу неведомой судьбе…
— Изрубите, — сказал я со вздохом. — Принцесса Анна Греческая правильно говорит. Если увидите человека, похожего на меня, ни о чем с ним не разговаривайте. Рубите сразу, и кусками помельче.
Я положил руку на плечо ошарашенного Алеши и тихо проговорил:
— Помнишь посла от императора, который оказался демоном? Помнишь, как мы все чуть не погибли? Ну вот…
Когда мы поднялись наверх и остались одни, Любава перестала сдерживаться и заплакала.
— Я боюсь за тебя, Красное Солнышко, — сказала она. — Когда ты пришел в наш мир, конунга Вольдемара убили. А теперь пришел новый человек, и убьют тебя. Или тебя не убьют, милый мой? Может быть, ты знаешь? Скажи мне!
Ответить мне было нечего. Стража, которую по моему приказу выставили вокруг терема, проблему не решала. Все равно бороться я не мог. Бороться можно с тем, что знаешь и понимаешь. А если имеешь дело с Неведомым Нечто, то не знаешь, откуда ожидать удара. Все равно кончится каким-нибудь очередным «послом» с лазером во рту и с киборгами в поддержку.
Я позвал старого Немигу. После того, с каким мастерством Немига насадил на кол Жеривола, я поглядывал на престарелого слугу с некоторой опаской. Хотел даже расстаться с ним, но затем передумал. Не выгонять же человека, если он — признанный мастер своего дела…
— Принеси нам вина. В подвале стоят запечатанные кувшины, которые мы привезли из Корсуни. Вот выбери самый старый и принеси.
Немига взглянул на меня с удивлением. Пить днем было совершенно не принято. Вечером, за ужином с дружинниками — да, и сколько угодно, но не сейчас.
Но я знал, что делаю. Мне оставался единственный способ прояснить ситуацию. Не выиграть игру, но хотя бы попытаться понять, что за игра мне предложена на сей раз. И самое главное: предложена ли мне игра или игра уже состоялась и решение принято без меня?
Распечатав принесенный Немигой кувшин, я разлил красное темно-рубиновое вино по кубкам — себе и Любаве. Может быть, нам предстояло проститься, но я не собирался об этом говорить.
— Мне нужно заснуть, — пояснил я. — Может быть, во сне я получу ответы на свои вопросы. Я же рассказывал тебе, что со мной иногда делятся крохами информации.
— Ты уверен, что стоит тебе заснуть и ты сможешь задать вопросы? — усомнилась Любава. — Ты ведь говорил, что такие сны снятся тебе совсем нечасто.
— Думаю, что сейчас как раз такой случай, — ответил я, отпивая большой глоток, а за ним — следующий. Почему бы не попробовать? — Сейчас мы с тобой выпьем, затем я допью из кувшина, сколько смогу, а после этого — усну. И мы поглядим, что из этого получится.
О том, что из моей дикой затеи может ничего не получиться, я старался даже не думать. В крайнем случае, если из сна ничего не выйдет, мое пьянство можно будет назвать бегством от действительности. С кем не бывает…
Мы стали пить ароматное вино, пахнущее спелыми ягодами, созревшими под солнцем черноморского побережья. Чтобы развеселить Любаву, я рассказывал что-то забавное, шутил с ней, и она послушно смеялась.
Я выпил кубок, потом еще один, и еще один. В голове сначала зашумело, затем послышался хрустальный звон, и все поплыло перед глазами.
Когда я отвалился на медвежью шкуру и закрыл глаза, то услышал, как Любава снова заплакала.
Тогда я открыл один глаз и сказал:
— Иди ко мне, Сероглазка. Может быть, перед тем как я засну, мы с тобой успеем еще кое-что.
А когда я провалился в сон, ко мне пришел отец. На этот раз Нечто уже совсем не прикидывалось. Образ отца был размыт, как на плохой ученической акварели, и лица было совсем не узнать. Так, мутная мужская фигура, лишь очертаниями напоминающая моего папу. Вероятно, я стал совсем своим для этой силы, так что со мной можно было больше не церемониться.
— Сынок, — сказало Нечто. — Тебе тут больше нечего делать. Ты не находишь?
Я молчал. Протуберанцы мигали и переливались на фоне черного неба. Перед лицом этой бездны что мог я сказать?
— Ты сделал то, что должен был сделать, — произнесло Нечто.
— Но я ничего не сделал, — прошептал я.
— Ты исполнил свою роль, — возразило Нечто. — Большего от тебя и не требовалось. Но теперь нужно делать то, на что ты не способен. Дальше на твоем месте будет действовать другой.
— А я? Я умру, как епископ Анастат?
Наверное, мой вопрос прозвучал очень жалобно, но я не заботился об этом. У меня совсем не было уверенности в том, что Нечто вообще способно испытывать жалость и даже понимать такие вещи…
— Анастат не умер, и ты не умрешь, — прозвучал спокойный ответ. — Если ты захочешь, то еще увидишься с ним.
— Увижусь? — повторил я. — Где увижусь? На том свете?
Скажу честно: на Николая Константиновича Апачиди, моего случайного знакомого, мне было совершено наплевать в ту минуту. Мало ли с кем я увижусь или нет. Но я безумно хотел понять еще хоть что-то из всей этой истории. Хотел понять правила игры…
Но мутный колеблющийся образ отца не дал мне ответа.
— Ты хочешь вернуться назад? — спросил он. — Вернуться на берег ручья и продолжить охоту? Ты ничего не будешь помнить о том, что было с тобой.
— И про Любаву — тоже?
Ответа не последовало, как я и ожидал. Зачем отвечать и сотрясать воздух? Сказано же было — ничего.
Задним, шестым чувством я вдруг ощутил, что время уходит. Нужно принимать решение, ведь мне дали шанс выбрать самому. Правда, так и не сказали, из чего выбирать, но про возврат на берег ручья и полное забвение случившегося я уже понял.
А время неумолимо истекало: фигура отца стала расслаиваться, ее очертания задрожали.
Сеанс связи с Неведомым завершался.
— Я не хочу возвращаться, — произнес я, как можно громче, словно боялся, что меня не услышат.
— Не хочу забывать, — добавил я в ужасе, что мои слова не дойдут до адресата и я не буду понят.
— Тогда — другое время и другая роль, — произнес отец. Он внезапно приблизился, и лицо его обрело четкость. Вот он — мой папа, его большая родинка на левом виске, его морщинки вокруг глаз и белый воротничок парадной форменной сорочки, сдавивший шею…
— Совсем другое время и совсем другая роль, — повторил отцовский голос у меня в ушах. — И там может не быть подсказок, что тебе делать. Ты готов к этому?
Я хотел спросить про самое главное. Очень хотел спросить о том, что представлялось мне самым важным в моей судьбе. Пусть другое время и пусть другая роль, но как же быть с самым дорогим для меня?
Я силился спросить и не мог родить ни одного звука. Словно внезапно онемел и мои уста и мой мозг сковало что-то…
— Ты готов? — повторил отец, и его слова оглушительным эхом раздались вокруг меня. — Женщина будет с тобой…
— Да, папа.
Назад: Глава 4 Корсунь
На главную: Предисловие